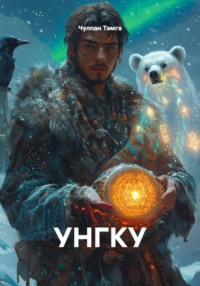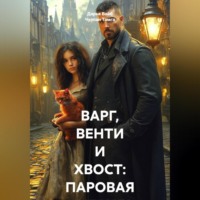Полная версия
Ходячее ЧП с дипломом мага
Он не бежал, не суетился. Он просто шёл через хаос, и паника перед ним расступалась, как вода перед форштевнем холодного, стального корабля. В его левой руке был изящный кожаный планшет, в правой – перо с тонким, острым наконечником. Он уже писал, его рука двигалась быстро и четко, с лёгким скрипом пера по бумаге, будто он составлял отчёт в тиши своего кабинета, а не в эпицентре безумия, устроенного пляшущими фруктами.
Марсела инстинктивно отступила на шаг, прижимая корзинку к груди, как щит, как последнее укрытие. Но его взгляд, острый и неумолимый, как скальпель, уже нашёл её. Он скользнул по её лицу, задержался на академической пряжке, которая сейчас казалась ей не гордым знаком отличия, а клеймом, по её испуганным, широко раскрытым глазам, в которых читалась вся вина мира, и всё понял. Всё вычислил за долю секунды. Его лицо не дрогнуло.
Он подошёл к лотку. Яблоки, почуяв недоброе, мгновенно замерли, притворившись обычными, ни в чём не повинными фруктами. Магия сдулась, как проколотый воздушный шарик, оставив после себя лишь беспорядок и всеобщий шок. Одно из яблок, самое непослушное, покатилось по прилавку и упало к его начищенным до зеркального блеска сапогам. Он не обратил на него ни малейшего внимания, словно это был не плод, а просто мусор.
Его глаза были прикованы к торговцу, который, трясясь всем телом, тыкал дрожащим пальцем в Марселу, его голос сорвался на визгливую, истеричную ноту.
– Она! Ведьма! Это она! Всё испортила! Мои яблоки! Мои деньги! Всё пропало!
Холодные серые глаза медленно, с тягучей, почти театральной неспешностью, перевели взгляд на Марселу. В них не было ни гнева, ни любопытства. Была только констатация факта. Констатация нарушения.
– Марсела Вейн? – его голос был ровным, тихим, но он прорезал остаточный шум площади, как лезвие прорезает ткань. В нём не было вопроса. Это было утверждение. Приговор.
Она могла только кивнуть, сглотнув комок в горле, который казался размером с яблоко. Слёзы высохли, испарились от этого ледяного взгляда. Остался только холодный, чистый ужас.
– Габриэль де Монфор, инквизитор пятого ранга, – отрекомендовался он, и его перо заскользило по бумаге с мерным, царапающим звуком, похожим на скрежет крошечных зубов. – На основании статьи седьмой, параграфа третьего «Регламента о санкционированном использовании магии в черте муниципального образования», составляю протокол о несанкционированном использовании магии, повлёкшем за собой нарушение общественного порядка, порчу имущества и причинение морального вреда.
Он говорил чётко, отчеканивая каждое слово, будто выбивая его на скрижалях. Звук его голоса, спокойного, бесстрастного, был страшнее любого крика, любого проявления эмоций. В нём была сила системы, закона, порядка, против которого её хаос был жалким, смешным лепетом.
– Но я… я ничего не делала! – вырвалось у Марселы, и её собственный голос показался ей жалким, слабым, детским, булькающим где-то в луже у его ног.
Де Монфор поднял на неё взгляд. В его глазах не было гнева. Лишь утомлённое раздражение учёного, вынужденного иметь дело с особенно тупым и бесперспективным подопытным, который ещё и пачкает оборудование.
– Оживление неодушевлённых предметов с целью создания публичного беспорядка, – продолжил он, как будто не слыша её, его перо выводило аккуратные строки, – квалифицируется как нарушение третьей категории тяжести. Предписывается явка в инквизиторскую канцелярию для дачи объяснений в течение двадцати четырёх часов. – Он сделал маленькую, но выразительную паузу, бросив взгляд на её корзинку, где лежали овсянка и хлеб. – В случае неявки… санкции будут применены в одностороннем порядке. Возможно, вплоть до приостановления деятельности вашего… заведения.
Он произнёс последнее слово с лёгкой, но уничижительной интонацией, как будто «Горшок Светляка» был не местом магического ремесла, а притоном для сомнительных личностей.
Завершив запись, он оторвал небольшой листок с печатью от своего планшета и протянул его ей. Бумага была гладкой, холодной и невероятно тяжёлой в её онемевших пальцах. На ней аккуратным почерком было выведено несколько строк, а внизу красовалась суровая, официальная печать – глаз в треугольнике, окружённый лавровыми ветвями.
– Хорошего дня, – произнёс Габриэль де Монфор, повернулся на каблуках с безупречной выучкой и так же бесшумно скрылся в тумане, из которого появился, оставив после себя лишь царапающий звук его пера в памяти, смятую бумажку в её пальцах и ледяную пустоту в воздухе, которую не мог заполнить даже запах рыбы.
Паника на площади пошла на убыль, сменившись гулким, шёпотливым возбуждением. Люди, косясь на Марселу, расходились, по-воровски подбирая разбросанные товары, но уже без прежней животной спешки. Теперь они смотрели на неё с новым выражением – не с безразличием, а со страхом и брезгливым любопытством. Торговец с яблоками, бормоча бессвязные проклятия и крестясь, собирал своё «испорченное» добро, швыряя его обратно в корзину, как падаль.
Марсела стояла, не в силах сдвинуться с места. В ушах звенело, в висках стучало, отдаваясь эхом в костях черепа. Она смотрела на протокол в своей руке. Аккуратные, ровные строки, печать. Всё по форме. Всё по закону. А внутри у неё бушевала буря из стыда, страха и беспомощности, но теперь эта буря была тихой, леденящей. Она снова всё испортила. Не прошло и дня, а она уже успела навлечь на себя гнев инквизиции, выставить себя городским сумасшедшим, подтвердить все худшие ожидания. Что же будет дальше? Она вспомнила холодные глаза де Монфора, его безупречную выправку и тот тон, каким он произнёс «ваше заведение». Казалось, он видел её насквозь – всю её неуклюжесть, весь её страх, всю её ненадёжность. И выносил приговор: брак, ошибка природы, ходячее чрезвычайное происшествие. И самое ужасное, что она с ним соглашалась. В этот момент она ненавидела себя и свой дар больше, чем когда-либо.
Марсела стояла одна посреди постепенно пустеющей площади. Туман снова смыкался над ней, над её позором, пытаясь скрыть сцену преступления. В руке она сжимала протокол о нарушении. В корзинке лежали овсянка и хлеб, покупки, сделанные в другой жизни, пять минут назад. А у ног её валялось одно-единственное, румяное и беззаботное яблоко, подпрыгнувшее к ней в самый разгар танца и так и оставшееся лежать у её ног, будто верный, но непутевый пёс.
Она медленно, будто скованная невидимыми цепями, каждое движение давалось с трудом, наклонилась и подняла его. Кожура была гладкой и прохладной, словно ничего и не произошло, словно оно не участвовало в карнавале хаоса. Она положила яблоко в корзинку, к хлебу и овсянке. Оно лежало там, яркое, немое и безупречное, живое напоминание о её провале, о её силе, о её проклятии.
«Хорошего дня», – эхом отозвалось в памяти. Горькая, злая, идеально отточенная насмешка.
Она повернулась и побрела обратно, в свой Кривой переулок, чувствуя на себе тяжёлые, осуждающие, полные страха взгляды, которые, казалось, прилипли к её спине и будут преследовать её всегда. Туман, стал ещё гуще, ещё непрогляднее. Он скрывал её от чужих глаз, но не мог скрыть от неё самой. Он не мог смыть с неё ощущение позора и тяжести протокола в кармане.
Первый поход за провизией завершился полным, оглушительным, сокрушительным провалом. И у неё было жуткое, железное предчувствие, холодное, как взгляд инквизитора, что это только начало. Начало конца. Или начало чего-то такого, к чему она была совершенно не готова. Дверь «Горшка Светляка» впереди виднелась как тёмное пятно в молочной пелене. Она шла к ней, как приговорённый к эшафоту, неся в корзинке своё яблоко раздора.
ГЛАВА 3. Ворчание котла и шепот пыли
Путь обратно в Кривой переулок показался Марселе не просто дорогой – это было путешествие через чистилище собственной души, вымощенное скользким булыжником и выстланное ледяным туманом. Каждый звук – отдаленный крик торговца, скрип телеги, чей-то кашель из-за угла – заставлял её вздрагивать и сжимать в потной ладони злополучный протокол, который теперь казался не бумагой, а раскалённой пластиной, приклёпанной к её сознанию. Ей казалось, что из каждого клубка тумана вот-вот появится строгая фигура инквизитора де Монфора с его вечным планшетом, чтобы вручить новый протокол. За что? За слишком громкое дыхание? За неправильный цвет шнурков на ботинках? За сам факт существования в этом городе, который явно не одобрял её присутствия? Её нервы были натянуты до предела, тонкие и звонкие, как струны, готовые лопнуть от любого прикосновения, и город, казалось, чувствовал это, отвечая ледяным безразличием, которое было теперь хуже прямой угрозы. Безразличие говорило: «Ты даже не стоишь того, чтобы на тебя обращали внимание. Ты – случайная помеха, которую устранят в рабочем порядке».
В руке она сжимала тот самый листок – протокол о нарушении. Бумага, холодная и официальная, казалось, жгла ей пальцы не теплом, а какой-то особой, бюрократической стужей. Слова «несанкционированное использование магии» отпечатались в мозгу, словно клеймо, выжженное раскалённым железом. Она не просто неудачница. Она – нарушительница. Официально. И этот крошечный клочок бумаги, лёгкий, как пух, весил сейчас больше, чем все её дипломы, все её мечты и все её хрупкие надежды, вместе взятые. Он был гирей на её ноге, которая тащила её на дно, в трясину стыда и отчаяния.
«Ну что, получила свой первый трофей? – раздался в голове саркастический, но на сей раз приглушённый, почти усталый голос Тени. – Можешь повесить его на стену. Рядом с дипломом. Будет напоминать о твоих успехах. Коллекция начнётся с этого. Дальше – больше. Протокол за протоколом, пока они не сольются в один сплошной свиток, в котором будет описана вся твоя никчёмная карьера. Можно будет использовать как обои. Или как саван».
Тень, приняв форму небольшого, тёмного, бесшерстного зверька с огромными ушами и длинным хвостом, бежала рядом, сливаясь с влажным камнем мостовой, её лапки не издавали ни звука. Даже её едкие комментарии звучали сегодня без привычного задора, приглушённые общим настроением, как будто её самого подкосила эта неудача. Она чувствовала унижение Марселы как своё собственное, и это злило её ещё сильнее, потому что злость была единственной эмоцией, которую Тень умел выражать без последствий. Но сегодня и злость была какой-то вялой, выдохшейся.
– Заткнись, – беззлобно, но с отчаянием, прошептала Марсела, не глядя на неё. – Это же ты во всем виноват. Твоя ярость… твои эмоции…
«Я? – Тень фыркнула, подскакивая, чтобы перепрыгнуть через особенно грязную, маслянистую лужу, в которой плавало нечто неопознанное. – Я всего лишь твоё продолжение, дорогая. Твоё зеркало, только кривое и злое. Твои эмоции – моё топливо. Ты обиделась – я отреагировал. Всё логично. Винить следует тот уродливый, трепещущий комок чувств, что ты называешь своим сердцем. Оно, как ненадёжный механизм, то перегревается, то заклинивает. А я – всего лишь пар, который вырывается из клапана. Громкий, неприятный, но не главный виновник».
Марсела не нашла, что ответить. Внутри всё ныло – и содранные о булыжник колени, и сведённая в тугой, болезненный узел от страха душа. Она вспомнила, как на втором курсе, во время экзамена по управлению энергиями, у неё от волнения внезапно зацвели и покрылись ягодами чертополохом все чернильницы в аудитории. Тогда она отделалась лишь месяцем отработок в оранжерее и снисходительными вздохами наставников: «Вейн, вы – ходячий ботанический сад непредвиденных последствий». Тогда это казалось почти забавным, досадной помехой на пути к успеху. Но здесь, в этом чужом и холодном городе, всё ощущалось иначе. Серьёзнее. Опаснее. Здесь не было снисходительных, хоть и вечно вздыхающих, наставников, готовых списать её провалы на «творческий потенциал». Был инквизитор с ледяными, как айсберги, глазами, который смотрел на неё не как на нерадивую ученицу, а как на угрозу порядку, на сбой в системе, который нужно либо исправить, либо ликвидировать. И этот взгляд обжигал куда сильнее, чем любое заклинание, потому что в нём не было личной неприязни – только холодная констатация факта её несоответствия. Она была бракованным товаром в мире, где ценилась только стандартная продукция.
Спорить не было сил. Марсела лишь крепче сжала ручку корзинки, чувствуя, как подступают предательские слёзы – горячие, солёные, унизительные. Но она смахнула их тыльной стороной ладони, оставив на щеке грязную, липкую полосу. Плакать она будет потом. В своём доме. Если он, конечно, её снова впустит. Мысль о том, что дверь может остаться закрытой, что дом отвернётся от неё окончательно, заставила её сердце сжаться от нового, острого приступа паники, который перехватил дыхание. Она останется на улице. В этом тумане. С протоколом в кармане и яблоком в корзинке. Станет такой же серой, безликой фигурой, как все эти люди, будет слоняться по переулкам, пока не растворится в них, не станет частью пейзажа, вечным призраком Кривого переулка. Эта перспектива была настолько реальной и пугающей, что она чуть не закричала.
Вот и Кривой переулок. Все такой же тёмный, безлюдный и пропахший затхлостью, как гробница. Дом №13 по-прежнему стоял, наклонившись, словно в глубокой, невесёлой задумчивости, и эта его поза сейчас казалась не милой чудаковатостью, а позой отвержения. Вывеска «Горшок Светляка» была тусклой, светящаяся краска на светлячке едва теплилась, словно и она переживала случившееся, пытаясь сберечь последние, жалкие капли магии, но сил уже не было. Казалось, дом потускнел, съёжился от стыда за свою новую хозяйку.
Марсела остановилась перед дверью. Та смотрела на неё своим тёмным, непроницаемым дубом, в котором угадывались вековые кольца, видевшие столько хозяев, столько надежд и разочарований. Молоток-сова на ней казался особенно невозмутимым и осуждающим, его пустые глазницы были направлены прямо на неё, словно говоря: «Ну и что ты натворила?»
«Ну же, – мысленно взмолилась она, чувствуя, как колени подкашиваются от усталости, страха и бессилия. – Пожалуйста. Я больше не могу. Я сломалась. Впусти меня. Дай мне спрятаться. Хотя бы ненадолго».
Она осторожно, почти робко, толкнула дверь. Та не поддалась. Не то чтобы она была заперта – она просто была неподвижна, как скала, как часть городской стены. Древесина, вчера казавшаяся тёплой и живой, сейчас была холодной и мёртвой. Марсела почувствовала, как по спине пробежали ледяные мурашки. Вчерашнее радушие, пусть и неохотное, испарилось без следа. Дом знал. Дом чувствовал на ней запах неприятностей, запах инквизиции, тот самый официальный, сухой, убивающий всё живое дух бюрократии и наказания. Он чувствовал позор, который она принесла на своих подошвах, и отворачивался, как от прокажённой.
– Ну же, – прошептала она вслух, прикладывая ладонь к шершавой, холодной древесине. – Я знаю, что натворила. Я принесла беду на порог в первый же день. Я опозорила тебя. Но… – голос её сорвался, – мне некуда больше идти. Во всём этом городе… нет ни одного места, где бы меня ждали. Только ты.
Она почувствовала под пальцами ту самую слабую, едва уловимую вибрацию, биение сердца дома. На этот раз в ней не было тепла. Скорее, что-то вроде недовольного, глухого ворчания, доносящегося из самых недр, из каменных фундаментов, словно дом ворочался во сне, ему что-то не нравилось. Дверь издала короткий, сухой, нерешительный скрип – звук сомнения, звук внутренней борьбы. Но не подалалась. Она оставалась немой и непреклонной.
Отчаяние снова накатило на Марселу, холодной и тяжелой, как волна ледяной воды. Она прислонилась лбом к холодному, неумолимому дереву, закрыв глаза. Она представляла, как стоит здесь, под холодным, белым туманом, пока не превратится в такую же серую, безразличную статую, как все в этом городе, пока её тело не срастётся с дверью, не станет её частью – вечным стражем, который сам себя изгнал. Она уже почти чувствовала, как каменеет кожа, как холод проникает в кости, как мысли замедляются, превращаясь в тихий, монотонный шум, похожий на плеск волн у причала.
«Попроси, – вдруг прошептал Тень, и в его голосе не было насмешки, а лишь усталая, почти человеческая решимость. – Не дави. Не требуй, как права. Не пытайся быть хозяйкой, потому что ты ей пока не являешься. Попроси. Он же живой. Он должен услышать не твои претензии, не твои оправдания, а твою боль. Твой страх. Ты думаешь, он не знает, что такое страх? Этот дом старше этого города. Он знает всё. Но он ждёт искренности. А ты предлагаешь ему только панику и чувство долга. Это не сработает. Попроси, как просят о милости. Как просят о спасении».
Марсела глубоко, с дрожью, вздохнула, собирая последние крупицы сил, последние остатки чего-то настоящего, что ещё не было съедено страхом и стыдом. Слёзы снова подступили к глазам, на этот раз не от обиды, а от полного, тотального поражения, от понимания своей абсолютной малости и уязвимости. И на этот раз она их не смахнула. Пусть текут. Пусть дом видит.
– Ладно, – тихо, срывающимся голосом сказала она, и каждое слово давалось с трудом, как будто она вытаскивала их из самой глубины, где они прятались, придавленные грузом неудач. – Я понимаю. Ты недоволен. Ты имеешь полное право. Я… я принесла в тебя беду в первый же день. Я обманула твои ожидания. Думала, что смогу быть такой, как все – правильной, аккуратной, предсказуемой. А я не такая. Я никогда такой не была и, наверное, никогда не буду. Я – хаос. Я – та самая трещина в реальности, через которую лезет всякая ерунда. Пляшущие яблоки, визжащие серьги… это я. Это моя суть. И я принесла эту суть сюда, к тебе.
Она помолчала, давая словам просочиться в древнее дерево, в его сучки и трещины, надеясь, что они дойдут до того самого спящего сердца.
– Но… мне нужна твоя помощь. Не как хозяйке – как… как потерянному ребёнку. Ты – мой дом. Моё единственное убежище в этом мире, который меня не хочет. И я прошу у тебя этого убежища. Не заслуживаю, знаю. Но прошу. Я прошу… защиты. Не от города, не от инквизитора – от самой себя. От того, что во мне сидит и всё портит. Помоги мне с этим жить. Или… или выгони меня сейчас, и я уйду. И больше никогда не вернусь. Решай.
Она говорила всё это, глядя на тёмные сучки в дереве, похожие на закрытые глаза, и сама почти не верила в свои слова. «Помоги мне с этим жить». Как? Как можно помочь жить с проклятием, которое является твоей собственной сутью? Она чувствовала себя обманщицей, которая предлагает дому невозможную сделку. Но в её голосе, дрожащем, надтреснутом, полном слёз и неподдельного отчаяния, звучала такая искренняя, такая детская, такая голая беспомощность, что, казалось, даже камни мостовой могли бы дрогнуть. Она не просила как хозяйка, имеющая права. Она умоляла как дитя, заблудившееся в тёмном лесу и нашедшее единственный, едва теплящийся огонёк в ночи, молящее этот огонёк не гаснуть, не оставлять его одного во тьме.
Она не ожидала, что это сработает. Казалось, всё потеряно, связь порвана, мосты сожжены. Но вдруг – вибрация под её ладонью изменилась. Медленно, неохотно, как бы сопротивляясь. Недовольное, глухое ворчание сменилось на что-то вроде глубокого, задумчивого, вибрирующего гула, идущего из самых основ дома, из его каменных лон. Это был звук пробуждения, звук оценки. Дверь издала долгий, уже более мягкий, почти жалостливый скрип, похожий на старческий вздох, и на этот раз подалась внутрь, открывшись ровно настолько, чтобы она, худая и замерзшая, могла протиснуться.
Облегчение, теплое и слабое, как первый глоток воды после долгой жажды, разлилось по её телу, заставив дрогнуть и чуть не упасть от нахлынувших чувств. Она едва сдержала новый поток слёз, теперь уже от благодарности.
– Спасибо, – прошептала она, голос был сиплым от слёз. – Спасибо.
И, подтолкнув дверь плечом, она вползла внутрь, втащив за собой корзинку, как самый ценный, выстраданный трофей, как доказательство того, что она всё ещё может что-то делать, даже если это «что-то» – купить хлеб и нарваться на катастрофу.
Воздух в лавке был таким же густым и насыщенным, как и вчера, но сегодня он показался ей более спокойным, даже уставшим, будто дом пережил эмоциональную бурю вместе с ней и теперь приходил в себя. Полки медленно перетекали с места на место, но без вчерашней ленивой грации или утренней сонливости, а скорее, с озабоченной, деловитой суетливостью, будто перешёптываясь о случившемся, обсуждая детали, обмениваясь впечатлениями. Книги на полке за прилавком не переругивались, а тихо, почти конспиративно перешёптывались, бросая на неё быстрые, испуганные, но уже не враждебные взгляды. Пыль на них лежала неспокойно, вздымаясь маленькими вихрями-воронками и снова оседая, словно нервно перебирая свои частицы.
Марсела остановилась посреди комнаты, переводя дух, позволяя знакомым запахам – травам, старой бумаге, воску, магии – окутать её, успокоить. Она огляделась. Всё было на своих местах, но атмосфера была иной. Вчера дом встречал её как любопытную, немного странную диковинку, с которой можно потерпеть. Сегодня – как провинившуюся, но свою провинившуюся ученицу, вернувшуюся после драки, в разорванной одежде и со следами слёз на лице. Даже свет, пробивавшийся сквозь пыльное окно, казался более робким, приглушённым, будто боялся потревожить наступившее хрупкое, зыбкое перемирие. Она почувствовала себя чуть менее одинокой, но и чуть более ответственной, как будто на неё возложили драгоценный, но очень хрупкий груз. Теперь у неё был не просто кров над головой. У неё было живое, чувствующее существо, чьё доверие, только что едва возвращённое, нужно было беречь, как зеницу ока. И это пугало почти так же сильно, как инквизитор с его протоколом, потому что это была ответственность не перед бездушным законом, а перед душой. Потерять это доверие значило потерять всё.
Она закрыла дверь, и та захлопнулась с тихим, но твёрдым, окончательным щелчком, словно говоря: «И чтобы больше такого не повторялось. Поняла? Последнее предупреждение».
Марсела поставила корзинку на прилавок. Дубовая столешница отозвалась лёгкой, знакомой вибрацией – стук сердца дома стал чуть отчётливее, но всё ещё настороженным, выжидающим, будто сердце прислушивалось к её следующему шагу, к её следующим мыслям.
И тут её взгляд упал на Котел.
Он стоял на своём месте, величественный и покрытый благородной патиной, как и прежде. Но сегодня от него веяло не просто холодом или задумчивостью, а откровенной, почти осязаемой неприязнью и разочарованием. Он был не просто предметом мебели – он был личностью, и эта личность была обижена. Глубоко. Одна из его ручек-змей была неестественно выгнута и поднята, словно в ожидании удара или в позе активной обороны, а сама бронзовая емкость слегка накренилась, демонстративно отвернувшись от входа, от неё, показывая ей свой самый тёмный, не полированный бок. Когда Марсела, преодолевая робость, сделала шаг в его сторону, Котел издал низкий, гортанный, предупреждающий звук – нечто среднее между ворчанием медведя и шипением змеи. Воздух вокруг него запахло не просто окисленной медью, а старым, холодным пеплом и чем-то горьким, как полынь, – запахом угасших надежд.
Марсела замерла, почувствовав себя лишней, незваной гостьей, виноватой в собственной лавке. Это был новый уровень странности – быть отвергнутой собственным котлом. В Академии котлы были бездушными инструментами, которые слушались или не слушались в зависимости от мастерства мага. Здесь всё было иначе. Здесь инструменты имели свою гордость, свою историю и, как выяснилось, долгую память. И чтобы с ними работать, нужно было не приказывать, а договариваться. А чтобы договариваться, нужно было сначала заслужить право на разговор. И она это право, судя по всему, только что растеряла на городской площади.
– Э-э… привет, – неуверенно, сдавленно сказала она, чувствуя, как глупо это звучит, но не зная, с чего ещё начать. – Я… я вернулась.
Котел ответил новым, уже более громким и отчётливым ворчанием, в котором слышалось недвусмысленное «Ну и что?». Из его глубины донеслось тихое, но зловещее бульканье, словно он переваривал что-то очень неприятное, и в воздух вырвался маленький клубок пара, пахнущий чем-то прокисшим и горьким, как разочарование.
«Кажется, он не в духе, – констатировал Тень, материализовавшись на прилавке в виде худой, чёрной кошки с необычно яркими зелёными глазами и принявшись вылизывать лапу с преувеличенным, наигранным безразличием, которое не могло скрыть его собственного напряжения. Его уши были прижаты к голове. – И кто его винит? Его новая хозяйка проводит меньше суток в городе и уже успевает заполучить протокол от инквизиции, устроить цирк на главном рынке и, судя по всему, привлечь к нашему скромному жилищу самое нежелательное внимание. Не самый лучший старт для карьеры, а? Репутация, знаешь ли, вещь хрупкая. Даже у бронзового, многовекового горшка, который, я уверен, варил зелья для особ куда более важных и аккуратных, чем ты. Он, наверное, вспоминает былые времена и тихо плачет внутри. Бронзовыми слезами. Очень коррозийными».