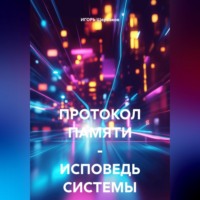Полная версия
Чёрный передел, или Хроногной

ИГОРЬ Щербаков
Чёрный передел, или Хроногной
ГЛАВА 1. ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Дождь сек по лицу, как стеклышки из разбитой фары. Не тот моросящий, что наводит тоску, а резкий, колкий, выбивающий из мысли любой узор, кроме одной – белой, на асфальте. Белой, потому что фонарь над пустырем светил жёлтым и грязным, а кровь под ним в таком свете казалась не красной, а черной. Как и всё остальное.
Марк стоял над телом, тяжело дыша, и ловил ртом влажный, пропитанный городской грязью воздух. В нём плавал знакомый, приторно-металлический запах, смешанный с вонью перегара от мертвеца и дешёвого одеколона, которым тот, видимо, пытался заглушить жизнь. Не помогло.
«Всё не так, – тупо крутилось в голове, заедая, как старая пластинка. – В кино… в этих всех сериалах… после этого музыка нарастает. Или катарсис. Типа, мир стал чище. Ага, щас.»
Никакой музыки. Только шум дождя по ржавому железу где-то рядом, да далекий гудок поезда. И комок в горле, противный, тошнотворный. Не от жалости. От омерзения. К себе в первую очередь. К тому, как просто это вышло. Один толчок, короткий взмах – не ножа даже, специальной, заточенной под ребро пластины – и вот уже не человек, а мокрый тюк в дешевом пальто, из которого медленно выползает тёмная лужа.
Марк на автомате вытер клинок о куртку мертвеца – о ту самую, дешевую, синтетическую. Чёрная полоска на тёмной ткани. Почти не видно. Потом засунул руку в карман пальто, нащупал пачку. Не толстую. Очень не толстую за отнятую жизнь. Сунул в свой карман. Вес не почувствовал. Просто еще один кусок бумаги.
Он шагнул от лужи, посмотрел по сторонам. Переулок был глухой, тупиковый, упирался в забор из профлиста. Идеальное место. Его и выбирали. Только вот уходить надо было не назад, к оживленным улицам, а вперёд, через дыру в том заборе, к промзоне и дальше, к своему «убежищу». Но ноги понесли куда-то вбок, сами, будто отказывались следовать плану. Шок, что ли. Или накопившаяся усталость от двух лет жизни в подполье, от постоянного оглядывания, от этого черного ремесла, которое съедало изнутри, не оставляя ничего, кроме мышечной памяти да холодного комка в желудке.
Он забрёл на пустырь. Где-то здесь, казалось, должен был быть проход. Но вместо него – ржавые остовы строительной техники, кучи битого кирпича и торчащий, как скелет доисторического зверя, каркас какого-то здания. Начали строить в лихие девяностые, деньги кончились, и всё. Так и стояло, памятник чьей-то неудаче. И посреди этого пейзажа – огонёк. Небольшой костер, разведенный в железной бочке.
И старуха.
Сидела на перевернутом ящике, вытянув к огню руки. Руки синие, узловатые, с кривыми пальцами. На голове – платок, дырявый, пропитанный городской копотью. Лица в тени не было видно. Но Марк почувствовал на себе взгляд. Тяжёлый, как свинцовая плита.
Он попытался обойти, свернув в сторону от бочки. Но голос остановил. Скрипучий, ржавый, будто давно не открывающаяся дверь.
– Монетку, милок, на хлебушек… старую погреться…
Марк фыркнул, внутренне перевернувшись. Отвращение ко всему – к себе, к миру, к этой грязной пьесе – вылилось в саркастическую усмешку. Полез в карман, где лежала добыча. Мелочи там не было, только пачка. Но в другом кармане нащупал несколько рублей – сдачу с утреннего кофе. Вытащил, не глядя, протянул к синей ладони.
– На, бабка… И проваливай отсюда.
Она медленно подняла голову. И Марк увидел глаза. Это были не старческие, мутные глаза. Они были чёрными, бездонными, как две вертикальные шахты, уходящие в никуда. В них отражалось пламя костра, но не желтое, а какое-то… неестественное.
– Спасибо, кормилец, – проскрипела она, но руку не протянула за деньгами. Вместо этого её ухмылка расползлась по лицу. Ухмылка, в которой было слишком много зубов. Кривых, желтых, но острых. – Добро твое не пропадёт…
И она дунула на костёр.
Не просто так, для смеха. Она дунула, сложив губы трубочкой, и из её рта вырвался не воздух, а словно сама тьма, холодная и густая. Угли в бочке взвыли. Пламя не просто вспыхнуло – оно взметнулось столбом в человеческий рост, сменив цвет с жёлто-оранжевого на ядовито-синий, почти фиолетовый. Воздух вокруг загудел низко, на грани слышимого, заставляя вибрировать землю под ногами и металл вокруг.
Марк отшатнулся, инстинктивно потянувшись за пластиной. Но это была не атака. Это было что-то другое.
– Давно я таких, как ты, не перераспределяла, – её голос теперь звучал иначе. Скрип исчез, остался только сухой, безжизненный шёпот, врезающийся прямо в сознание. – Даром что кровь твоя чёрная, рука тяжёлая… Но правила… правилам быть. Всё должно идти в дело. И ты пойдёшь.
Она дунула еще раз. Не на костёр. На него.
И мир порвался.
Это не было похоже на взрыв. Не было огня, ударной волны. Просто реальность перед ним треснула, как грязное стекло, и за трещиной открылась не тьма, а месиво из вывернутых наизнанку образов, звуков и запахов. Он увидел вспышку ракет в ночном небе (салют? война?), услышал рев толпы и скрежет металла, вдохнул запах бензина, выхлопа, пыли и… свежеиспеченного хлеба. Всё это сливалось в один оглушительный, сбивающий с толку поток.
И сквозь этот хаос, яснее всего, пробился звук. Гулкий, металлический, идущий как будто из старого, потрепанного репродуктора:
«Т… товарищи! Передаем последние известия! По всей стране советский народ готовится к достойной встрече 24-го съезда КПСС… Год 1971-й должен стать…»
Голос захлебнулся в рёве, и Марка вырвало из воронки. Не плавно, а с резким, болезненным щелчком во всём теле, будто все суставы разом вывихнули и вправили.
Он упал. Не на жёсткий, промокший асфальт пустыря, а в глубокую, холодную лужу. Вода хлюпала в уши. Он закашлялся, отплевываясь от гари и какой-то химической вкуснятины. Первое, что он почувствовал, кроме боли, – запах. Другой. Не тот едкий коктейль из выхлопов и гнили начала двадцатых. Это был запах бензина, но другого, более едкого, без присадок, и сверху – сладковатый душок махорки и где-то далеко, но уверенно – той самой булочки.
Марк поднял голову. Перед ним был не забор из профлиста. Был забор деревянный, покрашенный когда-то в зеленый, теперь облезлый. На нём афиша. Большая, яркая, на плотной бумаге. Краски сочные, простые. Мускулистый рабочий и колхозница с веслом (почему с веслом?) тянулись к солнцу. А над ними лозунг: «Вся страна встречает XXIV съезд КПСС! 1971 год – год новых трудовых побед!»
Он прочел. Медленно. Потом еще раз. Его взгляд скользнул по улице. «Москвич-412» цвета «морской волны» проехал по луже, обдав его новой порцией грязной воды. По тротуару шли женщины в прямых пальто и платках, мужчины в кепках и серых пиджаках. Ни одного кейса. Ни одной яркой куртки. Ни одной рекламы на стенах. Только лозунги, портреты суровых мужчин и звёзды.
Хохот начался где-то глубоко в животе, судорожной спазмой, и вырвался наружу диким, истеричным, надрывным ревом. Марк смеялся, лёжа в луже, трясясь и хватая ртом воздух, который теперь казался густым и странным на вкус.
– 1971… – выдавил он сквозь смех, который уже переходил в рыдания. – Год… трудовых… побед… Чёрт… Чёрт побери!
Его отца в этом году ещё в школу водят за руку. Мать – косички, пионерский галстук и вера в светлое будущее. А он здесь. Мокрый, вонючий, с деньгами, которые теперь не стоят ничего, и с руками, в которых засохла чужая кровь, которой еще нет в этой реальности.
Первая мысль была не о выживании. Не о поиске еды, крова, осмыслении произошедшего. Первая мысль была простая, чеканная, выжженная годами его старой жизни: найти ту старуху. Найти того, кто это сделал. Добраться до него. И расплатиться. Расплатиться так, чтобы от того мокрого места осталось только воспоминание.
Он поднялся, пошатываясь. Колени подкашивались. В голове гудело. Но ярость, холодная и целенаправленная, начала вытеснять панику. Он осмотрелся. Нужно было уйти с улицы. Составить план. Освоиться. Выжить, чтобы иметь возможность убить.
Он побрел, стараясь не привлекать внимания, сливаясь с потекшими стенами домов. Город казался вырезанным, но по-своему грязным. Серым. Однообразным. И при этом невероятно чужим. Он свернул в какой-то двор-колодец. Здесь пахло капустой, туалетом и сыростью. На скамейке сидели две старухи, обсуждая что-то. Они замолчали, уставившись на него.
Марк понял свою ошибку. Его одежда. Куртка современного кроя, джинсы, кроссовки. Он был как инопланетянин. Как пятно масла на серой советской ткани.
– Молодой человек, вы к кому? – строго спросила одна из старух.
Он промолчал, резко развернулся и пошёл назад, к выходу со двора. Надо было сменить одежду. И как можно быстрее.
Но они нашли его первыми.
Не милиция. Те, кто похуже. Двое. В одинаковых плащах и шляпах, но с такими прямыми спинами и размеренными, четкими движениями, что военная выправка проступала сквозь штатское, как клеймо.
Они вышли из-за угла как будто из ниоткуда, перекрыв ему путь. Старший, с узким, как щель, лицом и маленькими глазами-щелочками, улыбнулся. Улыбка не добралась до глаз.
– Документик, товарищ? – спросил он мягко, почти ласково.
Инстинкт кричал: «Беги!» Мышцы уже напряглись для рывка. Марк рванулся в сторону, в узкий проход между гаражами. Это была ошибка. Глупая, детская ошибка.
Щёлкин даже не побежал за ним. Младший, коренастый, с лицом боксера, шагнул вперёд, и его рука мелькнула. Не для захвата. Удар прикладом чего-то тяжёлого и металлического пришёлся точно в солнечное сплетение.
Воздух вырвало из лёгких бесшумным, болезненным хрипом. Весь мир сузился до белой вспышки боли в середине тела. Марк сложился пополам, падая на колени. Ещё не успев рухнуть на асфальт, он почувствовал холодное дуло у виска.
– Не советую, – всё так же мягко произнес голос сверху. – Эти ребята… они не стреляют в ноги. Как-то несознательно получается. В затылок. Ну, ты понимаешь.
Марка грубо подняли, скрутили руки за спину. Перед тем как черная, густая тьма накрыла сознание от боли и нехватки воздуха, он услышал последние слова, сказанные уже не ему, а его напарнику:
– Бродяга. Без документов. Подозрительный вид. Не нашего поля. В отдел. Разберёмся.
-–
Отдел был явно не для бродяг. Не обшарпанный участок с линолеумом и выцветшими портретами, а кабинет где-то на верхних этажах безликого здания. Без таблички на двери. Внутри – запах старого паркета, воска, махорки и чего-то ещё, едкого, официального. Стол, пара стульев, шкаф с зелёным сукном. И больше ничего.
Марка бросили на стул. Руки всё ещё были скручены сзади. Солнечное сплетение ныло так, что каждый вдох давался с трудом. Щёлкин сидел напротив, не спеша раскуривая «Беломор». Дым был едким, терпким.
– Ну что, товарищ… как тебя? – начал он, изучая Марка через струйку дыма. – Проверили. По всем базам. Нигде. Как призрак. Значит, варианта три. Первый – шпион. – Он помедлил, оглядев Марка с ног до головы. – Маловероятно. Слишком… туп для шпиона. Внешний вид кричащий. Второй – беглый зэк. Возможно. Но сбежал бы не в Москву, а куда подальше. И навыков бы особых не имел. А у тебя… осанка не та. Руки… правильные. Для другого дела. – Он сделал глубокую затяжку. – Поэтому мне нравится третий вариант. Гость.
Марк молчал, уставившись в пол. Мысли лихорадочно метались. Что они знают? Могут ли знать? Бред. Но этот бред уже стал реальностью.
– Молчишь. Правильно. Умный гость. – Щёлкин потушил окурок в пепельнице, раздавил его с особым тщанием. – Слушай сюда. В твоих же интересах исчезнуть из моего поля зрения. Насовсем. Но я просто так тебя не отпущу. Ты – мусор. Неучтенный элемент. А я не люблю беспорядка. Однако… мусор иногда можно использовать. Есть у меня одна задачка. Нужны документы. Настоящие. Не для тебя. Для другого человека. Сделаешь – получишь месяц свободы. Месяц, чтобы раствориться. Сделаешь плохо, с косяками… – Он наклонился вперёд, и его щелочки-глаза впились в Марка. – Тогда 1971-й год станет для тебя не временной остановкой. Он станет вечностью. Понятно?
Марк медленно поднял голову. Глаза их встретились. В глазах Щёлкина не было ни злобы, ни любопытства. Был холодный, практичный расчет. Как у инженера, подобравшего нужную деталь для механизма.
– Кто этот человек? – хрипло спросил Марк.
– Узнаешь. После того, как согласишься.
Выбора, по сути, не было. Отказ означал либо Лефортово, либо тихий выстрел в подвале и безымянную могилу. Согласие – отсрочку. И шанс. Маленький, ничтожный, но шанс.
– Я согласен.
– Умно. – Щёлкин кивнул младшему, стоявшему у двери. Тот подошёл, освободил руки Марка. – Его зовут Леонид Сергеевич. Алкоголик, гравёр, живёт в полуподвале на окраине. Был лучшим в «особом отделе», пока не спился после одной… истории. Он тебя научит. А ты сделаешь. Всё, что он скажет.
-–
Леонид Сергеевич жил не просто на окраине. Он жил в мире, который уже умер, но ещё не разложился до конца. Полуподвал пятиэтажки, пахнущий сыростью, кислым щами, перегаром и химикатами. В одной комнате – кровать, заваленная хламом, стол, заставленный бутылками, склянками и какими-то металлическими приборами. В другой – нечто похожее на мастерскую: пресс, лампы с увеличительными стеклами, ящики с инструментами.
Сам Леонид был похож на выброшенную на берег рыбу – седой, обрюзгший, с мутными, заплывшими глазами, в которых лишь иногда, словно вспышка молнии, пробегал острый, пронзительный свет. Он сидел за столом, разглядывая Марка, которого привёл тот же коренастый «боксёр».
– Вот тебе новый ученик, Леонид Сергеевич, – сказал «боксёр» без эмоций. – Обучай. Через неделю первая проба.
И ушёл, хлопнув дверью.
Леонид долго молчал, потягивая из стакана какую-то мутную жидкость. Потом хрипло спросил:
– Зачем тебе это, пацан? Света белого не взвидел за такие дела. Паспорта, справки… это не игра. Одна ошибка – и тебя не в тюрьму. В расход. Как брак.
Голос его был хриплым, но в нём не было страха. Была усталость. Глубокая, вселенская усталость.
– У меня выбора нет, – хрипло ответил Марк, всё ещё не разгибаясь до конца от боли в животе.
Леонид хмыкнул. Звук был похож на скрип ржавых петель.
– О, это здесь у всех нет выбора. – Он отпил ещё, поставил стакан, тяжело поднялся. – Ну, раз так… Держи.
Он сунул Марку в руки тонкий, похожий на иглу резец и небольшую металлическую пластину, уже покрытую каким-то темным грунтом.
– Это – твой нож. И твоя жертва. Начнем с азбуки. С буквы «А». Паспорт образца 53-го года. Буква «А» в слове «Александр» на странице три имеет не два завитка, как в обычном шрифте, а три. Один из них – ложный, для визуального веса. Два других – защитные. Глубина гравировки первого – 0.15 миллиметра. Второго – 0.12. Разница в углах наклона штрихов – три градуса. Один неверный штрих, одна лишняя тысячная миллиметра… – Он посмотрел на Марка своими мутными глазами, и в них снова мелькнула та самая вспышка. – И тебя в Лефортово на блины позовут. Не на обычные. На свинцовые. Понял?
Марк молча кивнул. Он смотрел на резец в своей руке. Та рука, которая час назад держала смерть, теперь должна была творить обман. Искусный, тонкий, безупречный.
Леонид показал ему, как сидеть, как держать пластину, как направлять свет. Потом отошёл, плюхнулся на кровать и, кажется, мгновенно уснул, храпя и бормоча что-то во сне.
А Марк остался один. За столом, под жёлтым, немигающим светом лампы без абажура. Вокруг – царство запахов смерти и мастерства: перегар, кислота, металлическая пыль. Он взял резец. Пальцы, привыкшие к уверенному, грубому хвату рукояти ножа, дрожали. Не от страха. От непривычной тонкости задачи.
Он прикоснулся резцом к пластине. Металл издал едва слышный скрип. Он повел линию. Она вышла кривой, дрожащей, слишком глубокой. Не буква, а пародия. Ярость, тупая и знакомая, клокотала внутри. Рука сама потянулась бы в обычной жизни к оружию, чтобы разрубить, уничтожить источник раздражения.
Но здесь нельзя было уничтожить. Нужно было создавать.
Марк заставил себя дышать ровно. Стер неудачную попытку, загрунтовал пластину заново. Снова поднес резец. На этот раз движение было чуть увереннее. Штрих лег ровнее, но угол не тот. Опять мимо.
Так прошли часы. Он гравировал букву «А». Первую букву. Не в паспорте. В своём новом приговоре. Каждый штрих был шагом вглубь этой новой, абсурдной реальности. Каждая ошибка – напоминанием, что здесь его грубая сила ничего не стоила. Здесь нужна была точность. Терпение. Холодный, безэмоциональный расчёт. Почти как при планировании удара. Только цель была не живой человек, а иллюзия.
Где-то за тонкими стенами полуподвала гудела московская ночь 1971 года. Не гул машин и рёв мотоциклов, а редкий перезвон трамвая, скрип шагов дворника, подметающего асфальт метлой, и далёкий, меланхоличный гудок паровоза. Поезд, вывозивший эпоху. Эпоху, в которой ему теперь предстояло либо сгинуть бесследно, как муха в янтаре, либо… Он отогнал мысль. «Либо» не было. Пока не было.
Он снова наклонился над пластиной. На этот раз его рука не дрогнула. Резец лёг точно под нужным углом, прочертив тончайшую, идеальную линию.
Первый защитный завиток буквы «А». Ещё не буква. Ещё не приговор. Но уже начало. Начало его нового чёрного передела.
Он оторвался от пластины, разогнул затекшую спину. Пальцы онемели от напряжения, в глазах стояли белые точки от яркого света. Но на куске металла лежал почти идеальный элемент. Почти. Леонид, проснувшись как от толчка, подошёл, взял пластину, поднес к самой лампе. Мутные глаза сузились. Он молчал так долго, что Марк почувствовал, как по спине пробежал холодок.
– Сгодится, – наконец выдохнул старик, и в его голосе прозвучало нечто похожее на уважение. – Рука тяжёлая, но учится. Животный страх – хороший мотиватор. Держись за него.
Он протянул обратно пластину и резец.
–Теперь – до утра. Буква «А» во всех регистрах и вариантах. Пока твоя рука не будет выводить её во сне. А я пойду… подкреплюсь.
Леонид налил из бутылки без этикетки в стакан, выпил залпом, содрогнулся и снова повалился на кровать. Храп возобновился.
Марк остался наедине с металлом и тишиной, нарушаемой только этим храпом и биением собственного сердца. Страх, о котором говорил Леонид, был. Но не животный. Холодный, рациональный. Страх застрять в этом сером кошмаре навсегда. Этот страх можно было обуздать, направить в работу. Он снова склонился над столом.
К утру, когда серый свет начал пробиваться в закопченное окно-иллюминатор, его правая рука казалась чужой, деревянной, но буква «А» выходила из-под резца уже автоматически. Ровно, чисто, с нужной глубиной. Создавать оказалось сложнее, чем уничтожать. Но в этой сложности была своя, извращённая, точность. Здесь был понятный алгоритм, результат. Не как в той жизни, где после удара всегда оставалась пустота и тошнота.
Леонид встал, потянулся, поскреб щетину на щеках. Осмотрел десяток пластин, выстроенных Марком в ряд.
–Ладно, – буркнул он. – Азбуку усвоил. Теперь поговорим о бумаге. И о крови.
Оказалось, что «кровь» – это не метафора. Это специальные чернила для печатей, которые меняли оттенок под определенным углом света. А «бумага» – это не просто лист. Это слоёный пирог из волокон разной плотности, с водяными знаками, которые видны только в ультрафиолете, которого в 71-м году в кармане у любого оперативника, конечно, не было. Леонид показывал образцы, рассказывал про технологии пятидесятых, про брак, который шёл в «спецхраны», про то, как отличить подлинный бланк от подделки по едва уловимой ряби на краю.
Марк слушал, впитывая. Это был новый язык. Язык власти и обмана. И он учился ему быстрее, чем мог предположить. Потому что это была та же самая тень, в которой он всегда существовал, только облеченная в канцелярскую форму.
Через три дня пришёл «боксёр». Молча, положил на стол фотографию. Мужчина лет тридцати, интеллигентное лицо в очках, аккуратный пробор.
–Фамилия – Семёнов. Виктор Павлович. Нужны всё. Паспорт, трудовая, диплом, прописка, характеристики. Полный комплект «красной зоны». Качество – безупречное. Срок – пять дней.
«Красная зона», как объяснил потом Леонид, – это уровень допуска для работы на второстепенных, но всё же режимных предприятиях. Не ядерные секреты, но доступ к чему-то, что интересует органы.
– Кому он нужен, этот Семёнов? – спросил Марк, когда «боксер» ушел.
Леонид посмотрел на него долгим,тяжёлым взглядом.
–Меньше знаешь – дольше проживешь. Делай, что говорят.
Работа закипела. Марк резал клише для печатей, смешивал «кровь», учился состаривать бумагу, имитируя пятна времени и потёртости сгибов. Леонид руководил, поправлял, но всё чаще просто сидел и наблюдал, и в его взгляде была странная смесь профессиональной оценки и какой-то глубокой, личной скорби.
На четвертый день, ближе к ночи, работа была почти закончена. Леонид, вопреки привычке, был трезв. Он сидел, курил самокрутку, смотрел, как Марк наносит последнюю, финальную печать на «чистую» страницу паспорта.
– Бланки, – вдруг тихо сказал Леонид, – я не терял.
Марк замер, не отрываясь от работы.
–Что?
– Те бланки, из-за которых меня списали. Я их не терял. Их украли. У меня из сейфа. А потом сказали, что я, старый пьянчуга, сам их где-то просрал. – Он сделал затяжку, выпустил дым. – И сейчас, пацан, ты не для органов работаешь. Не для Щёлкина. Он – шестерёнка. Может, и не понимает даже, в каком механизме крутится. Заказчик… другой.
Марк медленно поднял голову. В голове щелкнуло, как в капкане.
–Кто?
– Не знаю. Но они не наши. Играют в какую-то свою игру. И этот
Пять дней превратились в адскую, беспрерывную вахту. Полуподвал погрузился в молчание, нарушаемое только скрипом резца, шипением кислоты при травлении и хриплым дыханием Леонида, который теперь не спал, а лишь дремал урывками, вскакивая, чтобы проверить малейшую деталь. Он был как загнанный зверь, и в его мутных глазах всё чаще вспыхивал тот самый острый, панический огонёк.
Марк гравировал. Сначала клише для печатей – безупречные круги с микроскопическими зазубринами вместо звёзд, которые должны были оставить на бумаге характерный, чуть рваный оттиск. Потом – подписи. Семёнов Виктор Павлович. Он выводил эту роспись сотни раз, пока его рука не запомнила каждый изгиб, каждое дрожание, которое Леонид специально добавил в образец – «чтоб живым смотрелось, не машинным».
Бумага была самой сложной. Настоящие бланки, украденные бог знает откуда, пахли архивной пылью и влажным клеем. На них нужно было нанести текст. Не напечатать, а впечатать – так, чтобы буквы лёгким рельефом вдавились в волокна. Для этого использовался ручной пресс, тиски и набор свинцовых литер, которые приходилось подогревать ровно настолько, чтобы бумага чуть «подпалилась», имитируя работу типографского станка. Одна ошибка – и бланк улетал в печку, а вместе с ним – драгоценные часы.
На четвертую ночь Леонид не выдержал. Он сидел на краю кровати, держа в трясущихся руках почти готовый паспорт, и вдруг тихо, безнадежно заскулил.
–Не выйдет… Черт возьми, не выйдет! Ты видишь этот оттенок серии? Он на полтона светлее должен быть! Они проверят! Они обязательно проверят!
Марк, с красными от бессонницы глазами, посмотрел на него. Внутри все закипало. Не от страха, а от ярости. Ярости на эту игру в песочнице, на эту возню с бумажками, в то время как где-то там гуляла та самая старуха, которая бросила его сюда. Он встал, подошёл, вырвал паспорт из рук старика.
–Дай сюда.
–Что? Ты что делаешь?!
–Молчи.
Марк взял пузырек с тушью для подрисовки, тончайшую кисть из колонка, которую Леонид боготворил. При тусклом свете лампы он нанес на цифры серии несколько микроскопических точек, смешав цвета на глаз. Не чтобы исправить – чтобы создать иллюзию выцветания от времени и света. Он работал не как гравёр, а как тот, кто знает, как камуфлирующий следы. Следы преступления.
–Они ищут идеальное, – хрипло пояснил он, отдавая документ. – А идеального не бывает. Бывает естественное. Вот это – естественный брак. Как замятина на коже. Его не станут проверять дважды.
Леонид взял паспорт, поднес к свету. Его руки перестали трястись. Он посмотрел на Марка, и в его взгляде было что-то новое – не уважение, а почти ужас.