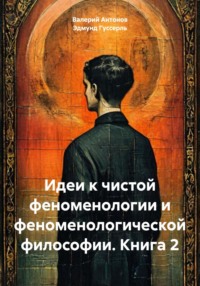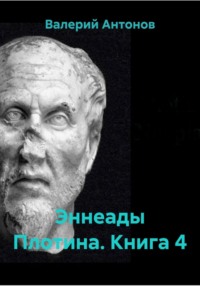Полная версия
Эннеады Плотина
Если же кто-то скажет, что мы так устроены от природы, чтобы страдать от несчастий близких, пусть знает, что не все таковы, и что долг добродетели – вести общую природу к лучшему и к более прекрасному, вопреки мнению большинства. Более же прекрасное – не поддаваться тому, что считается ужасным по общей низшей. природе. Ибо не частным образом, но как великий атлет, должен быть настроен мудрец., отражая удары судьбы, зная, что они неприятны некой низшей. природе, но по своей собственной природе он способен нести их – не как нечто ужасное, а как то, что страшно лишь детям. Разве он желал этого? Нет, но и перед лицом нежеланного, когда оно случается, он проявляет добродетель, сохраняя душу нелегко сдвигаемой и нелегко подверженной страданию (δυσκίνητον καὶ δυσπαθῆ). Этот пассаж представляет собой кульминацию этики сопротивления: добродетель здесь – не просто знание, но аскетическая сила души, её «атлетическая» закалка, позволяющая сохранять внутренний свет (φέγγος) сознания даже в агонии. Современный смысл – в утверждении, что человеческое достоинство заключается не в отсутствии страдания, а в качестве внутренней позиции по отношению к нему, в способности к смыслопорождению и сохранению идентичности даже за порогом сознательного контроля. Это героический идеал, но лишённый пафоса: стойкость есть естественное следствие онтологического превосходства высшего «я».
9. О непрерывности блаженства: бессознательная деятельность сущности.
Но что, если он не осознаёт себя, будучи погружён в беспамятство из-за болезни или колдовства? Если, однако, признают, что он остаётся серьёзным мудрецом. в таком состоянии – подобно спящему во сне, – то что мешает ему быть счастливым? Ведь и во сне его не лишают счастья, и это время не исключают из расчёта, чтобы не считать счастливым всю его жизнь. А если не признают его серьёзным в таком состоянии., то они уже ведут речь не о серьёзном человеке. Мы же, предположив серьёзного человека, исследуем, счастлив ли он, пока он остаётся таковым.
«Пусть он серьёзный, – скажут, – но если он не воспринимает и не действует согласно добродетели, как он может быть счастлив?» Однако если он не осознаёт, что здоров, он всё равно здоров; если не осознаёт, что красив, он всё равно красив; а если не осознаёт, что мудр, разве он от этого менее мудр? Разве только кто-то не скажет, что в мудрости должно присутствовать самовосприятие и самоосознание; ибо в актуальной мудрости (ἐν τῆι κατ᾽ ἐνέργειαν σοφίαι) присутствует и счастье. Этот довод, возможно, имел бы смысл, если бы рассудительность и мудрость были чем-то привходящим (ἐπακτοῦ ὄντος). Но если существование мудрости (ἡ τῆς σοφίας ὑπόστασις) заключено в некой сущности, или, точнее, в сущности самого человека., и если эта сущность не утрачивается ни в спящем, ни вообще в том, кто, как говорят, не осознаёт себя, – если, далее, сама энергия этой сущности (ἡ τῆς οὐσίας αὐτὴ ἐνέργεια) пребывает в нём, и эта энергия не спит (ἄυπνος ἐνέργεια), – тогда серьёзный человек и в таком состоянии действует (ἐνεργοῖ), поскольку он таков. И эта деятельность может ускользать от осознания, но не от него целиком, а лишь от некой его части. Подобно тому как деятельность растительной души, совершаясь, не доходит до восприятия другим, чувствующим человеком, и, если бы мы были нашим растительным началом, мы бы и действовали как оно.. Но сейчас мы – не оно; наша сущность – в деятельности мыслящего начала (τοῦ νοοῦντος ἐνέργεια). Следовательно, когда это начало действует, действуем и мы.
Здесь происходит тончайшее и решающее различение. Плотин отделяет самосознание эмпирического субъекта (παρακολουθεῖν ἑαυτῶι) от непрерывной, «неусыпной» деятельности (ἄυπνος ἐνέργεια) высшей умной сущности человека. Счастье принадлежит не феноменальному «я», которое может терять сознание, а ноуменальному субъекту, чьё бытие тождественно его вневременной деятельности созерцания. Таким образом, блаженство оказывается онтологическим состоянием, а не психологическим переживанием. Его непрерывность гарантирована не памятью или рефлексией, а самой природой ума как актуальности. Современный аналог – различение личности и сущности, эго и глубинного «Я», где подлинное бытие и благо не зависят от колебаний сознания. Это метафизическое обоснование нерушимого достоинства и ценности человеческой личности даже в состояниях, кажущихся невменяемостью или деградацией.
10. О деятельности без самосознания: приоритет бытия над рефлексией.
Возможно, эта деятельность ускользает от осознания потому, что не касается ничего чувственного; ибо через посредство чувств, как через среду, нам кажется, что мы действуем и в отношении этих чувственных вещей.. Но почему же сам ум (νοῦς) не может действовать, и душа, предшествующая чувству и вообще всякому восприятию (ἀντίληψις)? Ведь должно существовать действие (ἐνέργημα), предшествующее восприятию, если мысль (τὸ νοεῖν) и бытие (τὸ εἶναι) – одно и то же.
Похоже, что восприятие возникает и имеет место, когда мысль возвращается к самой себе., и когда действующее начало души, связанное с жизнью, как бы отражается назад, подобно тому как в зеркале, гладком и блестящем, возникает образ, если оно покоится. Таким образом, когда такое зеркало в нас присутствует, возникают образы (εἴδωλα) мыслей и ума, и они зримы и, так сказать, познаются чувственно, вместе с предшествующим знанием, что ум и мысль действуют. Но когда это зеркало нарушено из-за расстроенной гармонии тела, мысль и ум мыслят без образа, и мышление происходит без фантазии. Так что можно помыслить, что мышление и с фантазией происходит тогда, когда самой фантазии для мышления не требуется. Можно найти множество прекрасных действий, созерцаний и поступков даже у бодрствующих, когда мы созерцаем или действуем без самоосознания (τὸ παρακολουθεῖν). Читающему необязательно осознавать, что он читает, особенно когда он читает с напряжением; и мужественно действующий не осознает, что проявляет мужество и действует согласно добродетели ровно настолько, насколько действует; и так в бесчисленном множестве случаев. Отсюда следует, что самоосознание рискует сделать менее яркими сами деятельности, которым оно сопутствует; будучи же сами по себе, без сопровождения, они чисты и действуют более интенсивно, и жизнь в них полнее. И именно в таком состоянии, когда оно случается с серьёзными людьми, жизнь присутствует в большей степени – не разлитая в чувственности, но собранная в самой себе, сосредоточенная в своём внутреннем единстве.
В этом пассаже Плотин проводит решающий поворот: он не только защищает возможность блаженства без сознания, но и утверждает, что высшие деятельности ума по своей природе предшествуют рефлексивному осознанию и часто более чисты и интенсивны именно в отсутствие последнего. Самосознание, понимаемое как возвращение акта к самому себе (ἀνακάμπτοντος), вторично и может даже ослаблять изначальную энергию. Образ зеркала объясняет, почему наше эмпирическое «я» не всегда застаёт деятельность высшего ума: «зеркало» низшей души, через которое эта деятельность могла бы отразиться в сознании, бывает затемнено или разбито. Таким образом, подлинная жизнь (τὸ ζῆν) и счастье суть атрибуты самой ноэтической деятельности, а не её отражения в самосознании. Современный резонанс этой идеи – в критике культа рефлексии и в поисках «нерефлексивного сознания» или «потока», где субъект полностью поглощён объектом, а его деятельность достигает максимальной эффективности и полноты. Это утверждение имманентной ценности чистого акта бытия, независимого от его субъективного переживания.
11. О подлинном субъекте блаженства: отказ от внешних критериев.
Если же некоторые станут утверждать, что такой человек даже не живёт, мы скажем, что он живёт, но они не замечают ни его жизни, ни его счастья. Если же они не убедятся, мы потребуем от них, чтобы они, предположив живого и серьёзного человека, именно как такового исследовали, счастлив ли он, – не умаляя сначала его жизни и не ища, присутствует ли благая жизнь, не упразднив человека и не исследуя счастье человека, не согласившись, что серьёзный человек обратился вовнутрь, и не ища его во внешних деятельностях, и вообще не полагая предмет его воли во внешнем. Ибо в таком случае не было бы и основания для счастья, если бы предметами воли называли внешнее и если бы серьёзный человек желал этого. Ведь он, возможно, и желал бы, чтобы все люди преуспевали и чтобы ни с кем не случалось зла; но даже если это не происходит, он всё равно счастлив. Если же кто-то скажет, что это сделало бы его нелогичным, если бы он желал этого – ибо невозможно, чтобы зла не было, – то ясно, что он согласится с нами, что его воля должна быть обращена вовнутрь.
Здесь подводится итог всей полемике. Плотин указывает, что оппоненты совершают ряд недопустимых подмен: они сводят жизнь к её внешним проявлениям, ищут счастье человека, предварительно «упразднив» (ἀνελόντας) его как носителя высшей, умной сущности, и проецируют истинную волю мудреца на внешние, невозможные или несущественные объекты. Серьёзный человек, обращённый вовнутрь (εἰς τὸ εἴσω ἐπεστράφθαι), находит цель и объект воли в самом себе, в своей тождественной уму сущности. Его благосклонность к другим (желание всеобщего блага) – это не условие его счастья, а естественное следствие его состояния, но не его суть. Признание же неизбежности зла в мире вынуждает согласиться, что единственно последовательной позицией является полный интровертивный поворот воли. Таким образом, внутренняя логика трактата завершается утверждением радикального автономизма: подлинное счастье есть бытие-в-себе и для-себя умной сущности, абсолютно независимое от эмпирического мира причин и следствий. Современное звучание этого заключения – в его вызове всем утилитарным и социально-ориентированным этикам: конечное благо человека трансцендентно по отношению к историческому и социальному контексту и достижимо только через онтологическую трансформацию, делающую внешнее мирное благоденствие желанным, но не необходимым.
12. О радости внутреннего покоя: подлинная услада совершенной жизни.
Когда же требуют удовольствия (τὸ ἡδὺ) для такой жизни, они не должны требовать присутствия наслаждений распущенных или телесных – ибо они невозможны в таком состоянии. и уничтожают само счастье, – но и не тех радостей, что суть ликование (περιχαρείαι) – ибо зачем они? – а тех, что сопутствуют присутствию благ, не состоящих в движениях и, следовательно, не возникающих как события. Ибо блага уже присутствуют, и он сам присутствует для себя; и это удовольствие пребывает неизменным (ἕστηκε), это благосклонное состояние (τὸ ἵλεων). Серьёзный человек всегда благосклонен, и его устроение (κατάστασις) спокойно, и его расположение (διάθεσις) желанно; его ничто из так называемых зол не поколеблет, если он поистине серьёзен. Если же кто-то ищет для жизни серьёзного человека иного рода удовольствия, то он ищет не жизни серьёзного человека.
В этом заключительном пассаже даётся окончательное определение того положительного аффекта, который совместим с блаженством. Это не динамическое, событийное удовольствие (ἡδονὴ ἐν κινήσεσιν), а статическое, имманентное состояние радости (τὸ ἵλεων), проистекающее не из приобретения, а из самого факта бытия в благе. Оно не «возникает», но «пребывает» (ἕστηκε), будучи атрибутом вечного присутствия блага в себе. Такая радость есть синоним внутреннего покоя (ἡσυχία) и неуязвимого расположения души. Тем самым проводится последнее радикальное различие: между счастьем как экстатическим переживанием и счастьем как онтологическим покоем сущности. Современный эквивалент – различение между гедонистическим поиском удовольствий и эвдемонистическим состоянием «процветания» (flourishing), которое есть скорее фоновая гармония бытия, а не пиковые переживания. Блаженство Плотина – это не эмоция, а модус существования, в котором радость есть просто синоним полноты и нерушимости бытия.
13. О неизменности внутренней деятельности: разнообразие форм, единство источника.
Ни сами деятельности (αἱ ἐνέργειαι) не могут быть остановлены превратностями судьбы, но одни будут сменяться другими в соответствии с различными обстоятельствами, и все они тем не менее будут прекрасны, и, возможно, тем прекраснее, чем более вынужденны. Что же касается деятельностей созерцания (αἱ κατὰ τὰς θεωρίας ἐνέργειαи), то одни, относящиеся к частным предметам., возможно, будут затруднены., например, те, которые требуют исследования и размышления. Но величайшее знание (τὸ μέγιστον μάθημα) всегда под рукой (πρόχειρον) и пребывает с ним, и тем более, даже если он окажется в так называемом быке Фаларида, о котором тщетно говорят, что дважды или даже многократно повторяемое страдание. становится приятным. Ибо там в быке. звучащее есть именно то, что существует в страдании, здесь же страдающее – одно, а другое – то, что сопутствует ему, пока по необходимости сопутствует, – не отлучится от созерцания всего блага (τῆς τοῦ ἀγαθοῦ ὅλου θέας).
Это завершающее утверждение окончательно снимает возможные возражения о внешних препятствиях. Внешние условия могут менять форму проявления деятельности (практической или даже низших форм созерцания), но не её сущностное ядро – непосредственное созерцание высшего блага, которое всегда «под рукой», как имманентное состояние бытия. Знаменитый пример быка Фаларида (медного быка, в котором жгли людей, и их крики превращались в рёв) используется для различения: у страдающего в быке нет ничего, кроме страдания, но у мудреца, даже в агонии, страдает одно начало, а другое, высшее, остаётся свободным и созерцает благо. Это не означает наслаждения страданием (как в извращённой стоической интерпретации), а констатирует онтологический дуализм в человеке. Таким образом, последний барьер – экстремальное физическое страдание – преодолевается: созерцание целокупного блага есть не интеллектуальный акт, требующий досуга, а модус существования умной сущности, неустранимый даже в самых ужасных обстоятельствах. Логика трактата достигает своей кульминации: счастье абсолютно, потому что абсолютна причастность ума к Благу, которая есть само его бытие.
14. О завершении: человеческое и истинное «я», аскетизм как свидетельство.
То, что человек, и особенно серьёзный, не есть нечто составное из высшего и низшего., подтверждается и отделением от тела, и презрением к так называемым благам тела. Что же касается требования, чтобы счастье принадлежало живому существу как целому, это смехотворно, поскольку счастье есть благоустроенность жизни (εὐζωία), которая складывается в отношении души, являясь её деятельностью, и притом не всякой души – конечно, не растительной (ибо тогда бы оно касалось и тела: ведь счастье не есть величина тела и хорошее сложение), но и не в хорошем чувствовании, поскольку излишества в этом, отягощая, могут увлечь человека к самим себе. Когда же происходит, так сказать, противовес в сторону наилучшего, телесное умаляется и ухудшается, дабы показать, что этот человек – иной, нежели внешнее. Пусть же человек здешний будет и красив, и велик, и богат, и властвует над всеми людьми, как подобает существу этого места, – и не должно завидовать ему, обманутому такими вещами. Для мудрого же, возможно, этого и вовсе не произойдёт, а если произойдёт, он сам умалит это, если заботится о себе. И он умалит и иссушит небрежением излишества тела, а власти сложит с себя. Заботясь о здоровье тела, он не захочет быть совершенно незнакомым с болезнями; но и не быть незнакомым с болями; и, даже если они не случаются в молодости, он захочет узнать их; уже же в старости ни эти боли., ни удовольствия, ни что-либо здешнее – ни приятное, ни противное – не будут его беспокоить, чтобы он не взирал на тело. Оказавшись же в страданиях, он противопоставит им свою заранее приготовленную силу, не принимая ни прибавления к счастью от удовольствий, здоровья и отсутствия боли, ни умаления или уменьшения его от противоположного. Ибо если противоположное не прибавляет ничего к тождественному высшему «я»., как же может противоположное у него что-то отнять?
Заключительный раздел подводит онтологический итог: истинный человек, мудрец, тождествен своему высшему, умному началу, что доказывается его способностью к отделению (χωρισμός) от тела и презрению к его благам. Аскетическая практика – умаление телесного – не самоцель, но demonstratio, свидетельство иного, вне-телесного бытия. Социальные и физические преимущества «здешнего человека» – удел обманутого сознания, достойный не зависти, но снисхождения. Мудрец не избегает болезней и боли, ибо они – часть опыта, который не должен заслонять главного; он готовится к ним, культивируя внутреннюю силу (δύναμις). Ключевой вывод: поскольку внешние обстоятельства, будь то приятные или болезненные, ничего не прибавляют к сущностному бытию высшего «я», они не могут и убавить от него. Счастье, таким образом, есть инвариантное состояние сущности, которое внешний мир может лишь затемнить для неведения, но не затронуть в его бытии. Это – метафизическое обоснование стоического идеала, но выведенное за его пределы: апатия здесь не психологический навык, а онтологический факт высшей природы человека. Современный отзвук – в призыве к идентификации не с социальными ролями и физическим состоянием, а с тем трансцендентным ядром личности, которое остаётся неизменным во всех перипетиях жизни и смерти.
15. О равенстве блаженства и преодолении иллюзий страха.
Если бы было два мудреца, и одному из них были бы присущи так называемые природные внешние. блага, а другому – противоположные, скажем ли мы, что счастье присутствует в них в равной мере? Скажем, если они равны в мудрости. Но если один прекрасен телом и обладает всем прочим, что не относится к мудрости и вообще к добродетели, созерцанию наилучшего и бытию в наилучшем, какое это имеет значение? Ведь и сам обладающий этим не будет гордиться как более счастливый, чем не обладающий, ибо избыток этих вещей не вносит вклада в цель, подобную цели флейтиста. Однако мы созерцаем счастливого, примешивая нашу собственную слабость, считая ужасным и страшным то, что счастливый таковым не сочёл бы; иначе он не был бы ни мудрым, ни счастливым, не изменив все представления об этом и не став как бы совершенно иным, уверенным в себе, что никогда не потерпит зла; ибо так он будет бесстрашен во всём. А если он боится чего-либо, он не совершенен в добродетели, но есть некое полу-существо. Ведь и непроизвольный страх, возникающий в нём до сознательного. суждения, даже если иногда возникает у него при виде других, мудрец, приблизившись к этому страху., отгонит его и успокоит встревоженного в нём, как ребёнка, склонного к печалям, либо угрозой, либо словом; угрозой же – бесстрастной, как если бы ребёнок устрашился одного лишь величавого взгляда. Не значит ли это, что такой человек бессердечен или неблагодарен? Нет, ибо таков же он и в отношении себя и своего. Отдавая же то, что надлежит. ему и друзьям, он был бы другом в высшей степени, сохраняя при этом разумность.
Этот заключительный пассаф решает последний возможный вопрос о справедливости: неравенство внешних условий ничего не меняет в равенстве внутреннего состояния блаженства, ибо последнее зависит исключительно от мудрости и причастности высшему. Обладание внешними благами столь же нерелевантно для счастья, как физическая красота для искусства флейтиста. Далее следует важное замечание о психологии мудреца: обычный человек проецирует на него свои собственные страхи, но подлинный мудрец достиг радикальной трансформации сознания, изменив все фантазии (φαντασίας) о добре и зле. Он убеждён в своей неуязвимости для зла, что и составляет основу его бесстрашия (ἀδεής). Спонтанные, дорефлексивные движения страха возможны как остаточные явления низшей души, но они мгновенно подавляются высшим началом, как взрослый успокаивает ребёнка. Это не делает мудреца бесчувственным или недружелюбным; его дружба и благодарность основаны на разуме и выражаются в должном действии. Таким образом, идеал завершается не отрешенным бесстрастием, а гармоничным соотношением: абсолютная внутренняя свобода и неуязвимость сочетаются с разумной и щедрой вовлечённостью в мир. Это высший синтез самодостаточности и связи, трансценденции и имманентности.
16. О ложном компромиссе и истинном образе жизни.
Если же кто-то не поместит серьёзного человека здесь, в этом уме, возвысив его, а низведёт его к превратностям судьбы и станет бояться, как бы они не случились с ним, тот не сохранит серьёзного человека таким, каким мы требуем его видеть, но лишь человека порядочного, и, представляя его смесью из блага и зла, он припишет такому и жизнь смешанную, состоящую из некоего блага и зла, что нелегко осуществимо. И если бы даже такой человек. и возник, он не был бы достоин именоваться счастливым, не имея в себе ни величия, соразмерного мудрости, ни чистоты блага. Следовательно, невозможно жить счастливо, оставаясь. в общем человеческом уделе.. Ибо правильно и Платон полагает, что благо должно принимать оттуда, сверху, и что тот, кто намерен стать мудрым и счастливым, должен взирать на него и уподобляться ему, и жить согласно ему. Это одно и должно иметь в виду как цель, прочее же – принимая. как бы при перемене мест, не получая от мест прибавления к счастью, но сообразуясь и с другими обстоятельствами, обступившими его, например, как он ляжет – так или иначе, давая этому низшему. то, что требуется для нужды и что в его силах, сам же будучи иным, не будучи удержан и от того, чтобы отпустить его, и отпустив его в свой срок природы, и будучи властен и сам решить об этом. Так что одни его действия будут направлены к счастью, другие же – не ради цели и вообще не его собственные, но принадлежащие присоединённому, о котором он будет заботиться и терпеть, пока возможно, как, например, музыкант – о лире, пока можно ею пользоваться; если же нет, он сменит её или оставит игры на лире, и воздержится от деятельности, связанной с лирой, имея другое дело без лиры, и будет смотреть на лежащую рядом лиру, распевая без инструментов. И не напрасно инструмент был дан ему изначально: ведь он уже пользовался им много раз.
В этом заключительном разделе Плотин проводит окончательную черту: всякая попытка «смешать» высшее счастье с заботой о низшем, внешнем благополучии есть компромисс, уничтожающий само понятие серьёзного человека. Такой «порядочный человек» (ἐπιεικὴς ἄνθρωπος) – не более чем гибрид добра и зла, лишённый чистоты и величия подлинной мудрости. Отсюда следует радикальный вывод: счастливо жить в обычном, «общем» (ἐν τῶι κοινῶι) человеческом укладе невозможно. Истинный путь указан Платоном: благо трансцендентно, и жизнь должна быть непрерывным обращением к нему и уподоблением ему. Практическое следствие: мудрец использует тело и внешние обстоятельства как инструмент (ὄργανον) – лиру, – заботясь о нём ровно настолько, насколько это нужно для высшей деятельности, и будучи готов в любой момент отложить его, когда оно перестаёт быть полезным или когда приходит срок. Его собственное, сущностное действие – это «пение без инструментов», чистое созерцание. Таким образом, трактат завершается не отрицанием мира, но утверждением абсолютного примата умной жизни: мир становится полем для проявления добродетели лишь постольку, поскольку служит высшей цели, но сама эта цель всегда трансцендентна ему и достижима только через внутреннее отрешение. Это этика радикальной ориентации: всё ценно лишь в отношении к Единому Благу, и ничто внешнее не может ни прибавить, ни убавить от него.
Пятый
трактат
. Εἰ ἐν παρατάσει χρόνου τὸ εύδαιμονεῖν.
Вечное настоящее: онтология счастья в философии Плотина.
Трактат Плотина «Об увеличении ли счастья во времени?» представляет собой не просто дискуссию об этической категории, но радикальную онтологическую деконструкцию самого способа человеческого существования во времени. Сжатый до афористической точности, его центральный тезис гласит: счастье (εὐδαιμονία) не может увеличиваться во времени, ибо оно по своей сути есть актуальная энергия вечной жизни, схватываемая исключительно в незамутнённом «теперь». Это утверждение, основанное на логических дистинкциях и приведении к противоречию (reductio ad absurdum), служит фундаментом для философской системы, которая ставит под сомнение базовые интуиции о ценности, времени и природе блага.
Внутренняя логика трактата движется от отрицания к утверждению. Плотин начинает с отрицания эмпирических доводов в пользу кумулятивного счастья. Память, наслаждение, множественность деяний – все эти кандидаты на роль «прибавителей» счастья последовательно отвергаются. Память оказывается либо указанием на качественное изменение в настоящем (например, рост мудрости), либо призраком, компенсирующим текущую недостаточность. Наслаждение, если оно и является беспрепятственной деятельностью, существует только в актуальном моменте; его прошлые моменты исчезли в небытии. Множество прекрасных деяний также не конституируют счастье, ибо их источник – внутреннее состояние души, а их внешнее совершение может быть случайным и даже совершённым порочным человеком. Каждый из этих шагов демонстрирует одну и ту же ошибку: смешение порядка сущего (τὸ ὄν) с порядком становления и исчезновения (τὸ μηκέτι ὄν). Стремясь измерить счастье, мы бессознательно применяем к нему метрику времени – ту самую метрику, которая по определению есть мера не-бытия, последовательность угасающих «теперь».