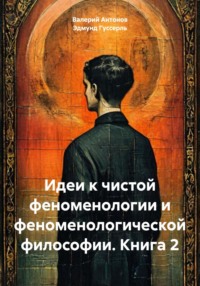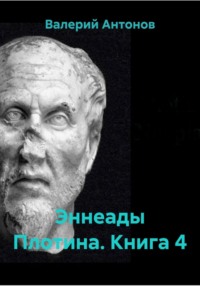Полная версия
Эннеады Плотина
Однако подобный вывод вызывает интуитивное сопротивление: неужели понятие счастья, столь возвышенное, можно распространить на всех без исключения животных, включая самых низших, а по той же логике – и на растения, которые также обладают жизнью, развертывающейся к своему концу? Возражение против такого расширения часто основано не на строгом аргументе, а на скрытой предпосылке о малой ценности такой жизни. Но разве право на благую жизнь должно определяться внешней, субъективной оценкой её достоинства? Более строгим критерием различия могло бы стать наличие чувственного восприятия (αἴσθησις), которое отсутствует у растений, но присуще животным. Тем не менее, если признать, что сама жизнь (ζωή) допускает градации – будучи либо благой, либо дурной, – то и в жизни растений можно усмотреть аналог благого состояния: растение может преуспевать или чахнуть, приносить плоды или нет.
Таким образом, внутренняя дилемма трактата раскрывается с полной ясностью: определение счастья диктует его универсальность, тогда как человеческая интуиция стремится к его исключительности. Если суть счастья – в удовольствии, или в невозмутимости (ἀταραξία), или просто в жизни согласно природе (κατὰ φύσιν ζῆν), то, следуя строгой дефиниции, нельзя последовательно отрицать его у других живых существ. Проблема, таким образом, смещается с вопроса «кому принадлежит счастье?» на более глубокий: «что есть само счастье?». Современное звучание этого рассуждения заключается в критике антропоцентризма и в постановке вопроса о границах морального сообщества. Логика Плотина заставляет задуматься: не является ли наше нежелание признать возможность счастья у иных существ следствием не строгого философского анализа, а предвзятой иерархизации ценности жизней, что, в свою очередь, требует либо пересмотра определения счастья, либо радикального расширения сферы этической ответственности.
2. О природе восприятия и высшем благе: от чувства к логосу.
Если, возражая против распространения счастья на растения, в качестве решающего критерия выдвигается отсутствие у них чувственного восприятия (αἴσθησις), то возникает риск лишить блаженства и многих животных. Ключевой вопрос заключается в том, какую именно роль играет восприятие в обретении блага. Если под восприятием понимать просто осознание испытываемого состояния (πάθος), то возникает дилемма: должно ли само по себе это состояние быть благом, прежде чем оно будет осознано? Например, пребывание в согласии с природой (κατὰ φύσιν ἔχειν) является благом, даже если оно не осознано; точно так же действие, соответствующее природе существа (οἰκεῖον), остается таковым, даже если сам субъект ещё не знает, что оно соответствует его природе и приятно. Следовательно, если благо уже присутствует как таковое в самом состоянии или расположении, то обладающее им существо уже пребывает в благе (ἐν τῶι εὖ). Зачем же тогда требуется дополнительное условие в виде восприятия? Получается, что сторонники этой позиции переносят источник блага не на само переживаемое состояние, а на знание (γνῶσις) или восприятие этого состояния. Но тогда они должны признать, что само восприятие и есть благо, как актуализация чувственной жизни (ἐνέργεια ζωῆς αἰσθητικῆς). А это ведет к абсурдному выводу: любое восприятие, каким бы оно ни было, станет благом.
Если же благо состоит из двух элементов – и состояния, и восприятия этого состояния, – то как нечто, составленное из двух, самих по себе безразличных (ἀδιάφορον) компонентов, может быть благом? Допустим, состояние (πάθος) само по себе благо, и благая жизнь (τὸ εὖ ζῆн) наступает тогда, когда человек осознает присутствие этого блага. Но что именно он должен осознать? Только факт наличия приятного ощущения или также и то, что это ощущение и есть само благо (τὸ ἀγαθόν)? Если требуется понимание, что это именно благо, то задача уже выходит за пределы простого чувственного восприятия. Это требует иной, более высокой способности (μείζων δύναμις), нежели αἴσθησις. Следовательно, благая жизнь доступна не просто испытывающему удовольствие, а тому, кто способен познать (γινώσκειν), что удовольствие есть благо. Причина благой жизни будет заключаться уже не в удовольствии, а в способности суждения (τὸ κρίνειν), постигающей ценность удовольствия.
Это приводит к решающему онтологическому различению. Способность суждения принадлежит к высшему порядку, чем простое переживание: это разум (λόγος) или ум (νοῦς). Удовольствие же есть переживание, состояние (πάθος). Нигде не может быть так, чтобы неразумное (ἄλογον) превосходило разумное. Как же тогда сам разум, отступив от собственной природы, станет полагать высшим благом нечто, относящееся к противоположному, низшему роду? Таким образом, все рассуждения, будь то тех, кто отказывает растениям в блаженстве, или тех, кто связывает его с определенным видом восприятия, содержат внутреннее противоречие. Они бессознательно ищут нечто большее в понятии «благая жизнь», интуитивно помещая «лучшее» в более ясную и выраженную форму жизни.
Те же, кто определяет блаженную жизнь как жизнь разумную (ἐν λογικῆι ζωῆι), а не просто жизнь чувствующую, возможно, движутся в верном направлении. Но почему они ограничивают счастье только разумным существом? Если причина в том, что разум (λόγος) более изобретателен (εὐμήχανον) и легче обнаруживает и обретает первичные природные блага, то тогда счастье будет доступно и неразумным существам, если те по природе обладают этими благами. В таком случае разум выступал бы лишь как полезный инструмент (ὑπουργός), а не как нечто ценное само по себе; и совершенство разума, которое мы называем добродетелью (ἀρετὴ), тоже не было бы самоцелью.
Если же утверждать, что ценность разума не в добывании природных благ, а в нём самом, в его самодостаточной притягательности, то необходимо точно определить его иную природу, его собственное действие (ἔργον) и то, что делает его совершенным (τέλειον). Его совершенство должно заключаться не в исследовании этих внешних благ, а в чём-то ином. Его природа должна быть иной, он должен принадлежать не к роду этих первичных природных вещей и даже не к тому, из чего они происходят, но быть выше всего этого. Иначе невозможно обосновать его высшую ценность (τὸ τίμιον).
Таким образом, позиция, связывающая счастье лишь с приобретением первичных благ, оказывается в тупике, пока её сторонники не откроют для себя иную, высшую природу, превосходящую ту, на которой они сейчас настаивают. Они остаются там, где желают оставаться, в недоумении относительно подлинного пути к благой жизни, довольствуясь тем, что им доступно. Этот анализ выводит рассуждение за рамки утилитарного понимания разума как инструмента и подготавливает почву для утверждения его трансцендентной, самодостаточной ценности, коренящейся в причастности к высшему, умопостигаемому началу.
3. О градации жизни и сущности блаженства: от эйдолона к совершенству.
Исходным положением является то, что счастье (τὸ εὐδαιμονεῖν) полагается в жизни (ἐν ζωῆι). Если бы понятие «жизнь» употреблялось однозначно (συνώνυμον), то все живые существа, как причастные жизни, были бы способны к счастью, а благой жизнью (εὖ ζῆν) в действительности жили бы те, у кого присутствует некое единое и тождественное благо, к восприятию которого, по природе, способны все живые существа. В таком случае нельзя было бы даровать эту возможность разумному существу (τῶι λογικῶι) и отказывать в ней неразумному (τῶι ἀλόγωι), ибо общим для них была бы именно жизнь, как основа, способная воспринять одно и то же благо для счастья. Отсюда проистекает и ошибка тех, кто утверждает, что счастье осуществляется в жизни разумной, поскольку они, по сути, не полагают счастье в общей жизни и даже не предполагают жизнь как таковую в качестве субстрата. Их вынуждают говорить о разумной способности (λογικὴ δύναμις) как о неком качестве (ποιότης), вокруг которого конституируется счастье. Однако их собственное подлежащее (ὑποκείμενον) – это разумная жизнь, и счастье складывается именно вокруг этого целого. Следовательно, оно относится к иному виду жизни (ἄλλο εἶδος ζωῆς), не как к чему-то противопоставленному разуму, но, как мы утверждали ранее, как к чему-то первичному, тогда как разум является вторичным.
Поскольку жизнь говорится во многих смыслах (πολλαχῶς λεγομένης) и имеет различие согласно степеням: первичным, вторичным и последующим, а также поскольку «жить» говорится омонимично – иначе о растении, иначе о неразумном существе, – причём различие заключается в степени явленности, ясности или смутности (τρανότητι καὶ ἀμυδρότητι), то, очевидно, по аналогии следует понимать и «благо» (τὸ εὖ). И если один род жизни есть лишь образ (εἴδωλον) другого, то и сопутствующее ему благо будет образом блага высшего. Однако если счастье принадлежит тому, у кого жизнь присутствует в высшей степени (ὅτωι ἄγαν ὑπάρχει τὸ ζῆν) – а это есть такая жизнь, которой ничто из присущего жизни не недостаёт, – то счастье будет принадлежать лишь тому, кто живёт в высшей мере. Ибо ему принадлежит и наилучшее, если только наилучшее среди сущих – это подлинно сущая жизнь, жизнь совершенная (ἡ τέλειος ζωή). Только в этом случае благо не будет чем-то привходящим извне (οὐδὲ ἐπακτὸν τὸ ἀγαθὸν), и не потребуется иного подлежащего, которое, будучи произведено откуда-то ещё, поставит его в состояние блага. Ибо что могло бы привнесться к совершенной жизни, чтобы сделать её наилучшей?
Если же кто-то станет говорить о природе блага как такового, такое рассуждение будет близко нашей мысли, однако мы ищем сейчас не причину (οὐ τὸ αἴτιον), а имманентное начало (τὸ ἐνυπάρχον). Что совершенная, истинная и подлинно сущая жизнь пребывает в той интеллектуальной природе (ἐν ἐκείνηι τῆι νοερᾶι φύσει), что все прочие жизни несовершенны, суть образы (ἰνδάλματα) жизни и не являются жизнью в чистом и полном смысле, а скорее в меру своего удаления от источника, – об этом было сказано многократно. И сейчас следует кратко повторить: поскольку всё живое происходит из единого начала (ἐκ μιᾶς ἀρχῆς), но прочее живёт не в равной степени, то необходимо, чтобы само это первое начало было жизнью первичной и в высшей степени совершенной. Таким образом, внутренняя логика рассуждения ведёт от признания омонимии жизни к иерархии её проявлений и, наконец, к утверждению, что подлинное счастье есть актуализация самой совершенной формы жизни, которая тождественна высшему Благу и не нуждается ни в каких внешних добавлениях для своего совершенства.
4. О человеке и совершенной жизни: тождество, ауттаркия и трансценденция блага.
Если человек способен обладать совершенной жизнью (τὴν τελείαν ζωὴν), то человек, обладающий такой жизнью, и есть счастливый. Если же нет, тогда счастье следовало бы отнести лишь к богам, если только у них пребывает жизнь такого рода. Однако, поскольку утверждается, что это счастье существует и среди людей, необходимо исследовать, каким образом это возможно. Человек, очевидно, обладает не только чувственной жизнью, но и способностью суждения (λογισμὸν), и подлинным умом (νοῦν ἀληθινόν). Но является ли он чем-то одним, а совершенная жизнь – чем-то другим, чем он лишь обладает? Или же вообще не существует человека, который не имел бы этого, по крайней мере потенциально (δυνάμει) или актуально (ἐνεργείαι), и именно такого мы и называем счастливым?
Скорее, следует сказать, что эта совершенная форма жизни (τὸ εἶδος τῆς ζωῆς τὸ τέλειον) пребывает в нём как его подлинная сущность. Обычный человек имеет эту часть лишь потенциально, тогда как счастливый уже актуализировал её и сам стал ею, переместившись (μεταβέβηκε) в тождество с ней. Всё прочее в нём теперь лишь окружает (περικεῖσθαι) эту сущность, и не может считаться его частью, поскольку существует не по его истинной воле; однако при правильном устроении это окружение может быть согласовано с волей высшего начала. Что же тогда является благом (τὸ ἀγαθόν) для такого существа? Он сам для себя и есть то, что он имеет. Причина же, пребывающая за его пределами (τὸ ἐπέκεινα αἴτιον), есть благо для него иным образом, присутствуя в нём, но не будучи им самим. Доказательством этого служит то, что существо, пребывающее в таком состоянии, не ищет ничего иного. Что ему искать? Ничто из низшего его не интересует, ибо оно пребывает в соединении с наилучшим (τῶι ἀρίστωι σύνεστιν).
Таким образом, жизнь того, кто обладает такой жизнью, самодостаточна (αὐτάρκης). Поскольку он серьёзен (σπουδαῖος) в своём высшем измерении, он самодостаточен для счастья и для обладания благом; ибо нет никакого блага, которого бы он не имел. Если он что-то и ищет как необходимое, то ищет не для себя, но для чего-то из своего окружения. Он ищет для тела, к которому привязан; и даже живя телесной жизнью, он живёт для этого своего низшего., а не для того, чем является подлинный человек. И он знает это различие, и даёт то, что даёт, не умаляя нисколько своей собственной, истинной жизни.
Следовательно, и при враждебных обстоятельствах (ἐν τύχαις ἐναντίαις) его счастье не умалится, ибо такая жизнь остаётся неизменной. При смерти близких и друзей он знает, что такое смерть – знание, доступное и тем, кто страдает, будучи внутренне серьёзным. Хотя страдания касаются его родных и могут причинять скорбь, они затрагивают не его самого, но то в нём, что не обладает умом, – ту часть, которая не примет страданий в свою высшую сущность. Внутренняя логика здесь ведёт к радикальному утверждению: счастье есть не состояние обладания, но онтологическое тождество с совершенной жизнью ума, которая благодаря своей самодостаточности и причастности к трансцендентному источнику остаётся невредимой в потоке внешних событий. Это учение о нерушимом внутреннем бастионе, актуальность которого – в ответе на экзистенциальную неустойчивость и поиск незыблемого основания человеческого достоинства.
5. О пределах страдания: испытания плоти и сущность блаженства
Возникает, однако, вопрос о более острых препятствиях: что делать с болью, болезнями и вообще всеми состояниями, которые полностью блокируют деятельность (τὰ ὅλως κωλύοντα ἐνεργεῖν)? А что, если человек вследствие действия ядов или некоторых болезней даже теряет самосознание (μηδ᾽ ἑαυτῶι παρακολουθοῖ)? Как при всех этих обстоятельствах можно сохранять благую жизнь и счастье? Вопросы о бедности и бесславии можно пока оставить в стороне, хотя и они требуют внимания, особенно если вспомнить столь часто упоминаемые «приамовы» несчастья (Πριαμικὰς τύχας). Даже если мудрец выносит их и выносит легко, сами по себе они не были бы желательны (βουλητά) для него. Между тем, счастливая жизнь должна быть желаема. Ведь невозможно считать серьёзного человека (τὸν σπουδαῖον) такой душой, которая бы не включала в свою сущность природу тела. Готовы ли мы допустить это, пока воздействия на тело относятся к нему, а выборы и избегания происходят у него по этой причине? Если удовольствие считается составной частью (συναριθμουμένης) счастливой жизни, то как может быть счастлив тот серьёзный человек, кто испытывает скорбь от превратностей судьбы и боль? Разве такие состояния возможны для него?
Очевидно, для богов подобное состояние (безмятежное и самодостаточное) является счастливым. Но человек, принявший в свой состав низшее начало (προσθήκην τοῦ χείρονος λαβοῦσι), должен искать счастья в отношении целого, образовавшегося из этого соединения, а не в отношении лишь одной части. Ибо если одна часть, низшая, пребывает в дурном состоянии, она по необходимости препятствует и высшей части в её собственной деятельности, поскольку условия для этой деятельности не обеспечены благополучием низшего. Отсюда следует радикальная дилемма: для того чтобы обладать самодостаточностью (τὸ αὔταρκες) в отношении счастья, необходимо либо оторваться (ἀπορρήξαντα) от тела и телесного восприятия, либо же принять, что условием деятельности высшего начала является определённый порядок и в низшем. Эта антиномия раскрывает трагическую двойственность человеческого удела: блаженство, по своей сути принадлежащее чистой интеллектуальной жизни, в земном воплощении оказывается подверженным помехам со стороны того, что не является сущностным, но с чем оно связано. Логика требует либо радикального трансцендирования, либо признания сложной целостности, в которой счастье высшей части не может быть абсолютно нечувствительным к страданиям части низшей. Этот пункт представляет собой кульминацию критики стоического идеала невозмутимости, демонстрируя его онтологическую несостоятельность для составного существа.
6. О единой цели: различение блага и необходимого.
Если бы рассуждение предоставляло счастье (τὸ εὐδαιμονεῖν) в том, чтобы не испытывать боли, не болеть, не быть несчастным и не попадать в большие бедствия, то при наличии противоположных обстоятельств никто не мог бы быть счастливым. Но если счастье положено в обладании истинным благом (ἐν τῆι τοῦ ἀληθινοῦ ἀγαθοῦ κτήσει), то к чему, оставив это в стороне и отводя взгляд от этого, судить о счастливом, требуя наличия прочего, что не входит в число условий счастья? Если бы конечная цель (τὸ τέλος) была совокупностью (συμφόρησις) благ и необходимых вещей, или даже не необходимых, но также называемых благами, то следовало бы требовать присутствия и их. Но если цель должна быть единой, а не множественной (ибо в противном случае это была бы не цель, а цели), то следует принимать во внимание лишь то одно, что является конечным (ἔσχατον), наиценнейшим (τιμιώτατον) и чего душа ищет, чтобы вместить в себя (ἐγκολπίσασθαι).
Это искание и это желание (βούλησις) заключается не в отсутствии нежелательных состояний; ибо они не относятся к её природе. Разум (ὁ λογισμὸς), устраивая свои дела, избегает их, когда они присутствуют, или же, принимая их в расчёт, ищет; но само стремление (ἡ ἔφεσις) направлено к тому, что выше её (τὸ κρεῖττον αὐτῆς), и когда это высшее входит в неё, она наполняется и останавливается. Вот эта жизнь и есть поистине желаемая (ὁ βουλητὸς ὄντως βίος). Присутствие же чего-либо необходимого не было бы предметом желания в собственном смысле, если строго понимать желание, а не пользоваться словом в переносном смысле, поскольку мы и эти вещи считаем нужными. Ведь мы вообще избегаем зол, и, конечно, само это избегание не есть предмет желания; скорее желательно то, чтобы не было нужды в таком избегании. Это подтверждают и сами эти вещи, когда они присутствуют: например, здоровье и отсутствие боли. Что в них привлекательного? Здоровье, когда оно есть, презирают, и отсутствие боли тоже.
То, что в присутствии не имеет ничего привлекательного и ничего не прибавляет к счастью, но в отсутствии ищется из-за присутствия неприятных вещей, разумно называть необходимым (ἀναγκαῖα), но не благом (ἀγαθά). Следовательно, это не должно входить в расчёт при определении конечной цели (οὐδὲ συναριθμητέα τῶι τέλει). Даже при их отсутствии и при наличии противоположного цель должна сохраняться незатронутой (ἀκέραιον τὸ τέλος τηρητέον). Внутренняя логика здесь совершает решающее движение: она отделяет сущностное стремление души к высшему трансцендентному Благу от всех инструментальных и негативных условий земного существования. Счастье определяется не через сумму позитивных состояний или отсутствие страданий, а через онтологическое обладание единым, самодостаточным Принципом. Это радикальная интериоризация и одновременно трансценденция цели, делающая подлинное блаженство независимым от фортуны. Современный отзвук этой идеи – в поиске не относительного психологического благополучия, а абсолютного смыслового основания, устойчивого перед лицом любой конечности и страдания.
7. О безразличии внешнего: величие духа и границы страдания.
Почему же тогда счастливый желает, чтобы эти необходимые вещи присутствовали, а противоположные отсутствовали? Утверждается, что не потому, будто они вносят какой-то вклад в само счастье, но скорее ради самого существования; противоположные же вещи либо вредят существованию, либо, присутствуя, мешают осуществлению цели (τῶι τέλει) – не в том смысле, что отнимают её, но потому, что обладающий наилучшим хочет иметь только его, а не что-либо иное вместе с ним. Когда это иное присутствует, оно не отнимает высшее благо, но всё же, даже при его наличии, высшее. остаётся.
Вообще, если счастливый чего-то не желает, но оно всё же происходит, это ещё не означает, что у него отнимается часть счастья. Иначе он ежедневно переходил бы из одного состояния в другое и выпадал из счастья – например, если бы терял ребёнка или любое имущество. Бесчисленны вещи, которые, случаясь против его воли, нисколько не затрагивают присутствующей в нём цели. «Но есть же большие несчастья, а не случайные мелочи», – возражают. Что же из человеческого может быть столь великим, чтобы не быть презренным для того, кто вознёсся к тому, что выше всего этого, и больше не зависит ни от чего низшего? Почему, в самом деле, удачи, сколь бы велики они ни были – царства, власть над городами и народами, основание и построение городов, даже если это его дело, – он не считает великими, а утрату власти или разрушение родного города сочтёт чем-то значительным? Но если он и впрямь сочтёт это великим или вообще злом, то он смешон в своей вере и уже не серьёзен, раз полагает великим бревна, камни и, клянусь Зевсом, смерть смертных, – он, у кого, как мы говорим, должно быть убеждение, что смерть есть благо по сравнению с жизнью в теле.
А если бы он сам был убит, счёл бы он смерть злом для себя из-за того, что пал у алтарей? Но если его не погребут, разве тело, положенное над или под землёй, всё равно не истлеет? А если его похоронят без пышности, безымянно, не удостоив высокого памятника – это мелочность. Если же его уводят в плен, у него всегда есть путь выйти – если только он не считает, что иначе не сможет быть счастлив. А если в плен уводят его близких, например, уводят невесток и дочерей – что ж, скажем, разве он умер бы, не видя такого? Разве он ушёл бы из жизни с убеждением, что такое невозможно случиться? Но это было бы нелепо. Неужели же он станет думать, что его близкие могут попасть в такие несчастья, и из-за такого убеждения, будто это может произойти, он уже не будет счастлив? Но даже и с таким убеждением он может быть счастлив – а значит, может быть счастлив и когда это происходит. Ибо он помнит, что природа всего этого мира такова, что несёт с собой и такие события, и что нужно следовать ей. И многие, попав в плен, проживут жизнь даже лучше. А если они тяготятся этим – могут уйти из жизни.. Или же, оставаясь, они либо остаются с разумным основанием, и тогда нет ничего ужасного, либо остаются без основания, когда не следовало бы, – и тогда виновники сами себе. Ведь не из-за неразумия других, пусть даже близких, он сам окажется в зле и не станет зависеть от удач и несчастий других.
Внутренняя логика этого рассуждения доводит до предела идею самодостаточности мудреца. Она не просто утверждает независимость высшего блага от внешних обстоятельств, но подвергает радикальной переоценке саму шкалу человеческих ценностей: то, что обывателю кажется величайшим горем, для восшедшего к умопостигаемому – ничто, «бревна и камни». Трагические сюжеты (плен, смерть, бесчестие) разбираются не как моральные дилеммы, а как онтологические иллюзии, проистекающие из ложной идентификации себя с телесным и социальным. Современный резонанс этой позиции – в её безжалостном требовании к экзистенциальной автономии: подлинная свобода и достоинство предполагают радикальное внутреннее дистанцирование от всех форм внешней детерминации, включая самые сакрализованные – родственные узы и патриотические привязанности. Это не бесчувственность, но признание иного порядка реальности, в котором наше подлинное «я» неуязвимо.
8. О силе добродетели перед лицом крайних страданий.
Что же до самой боли, то пока он в силах выносить её, он будет нести; если же она превзойдёт меру, она унесёт его из жизни.. И он не будет жалок в страдании, но будет хранить свой внутренний свет, подобно свету в светильнике среди сильной бури и вьюги, когда снаружи бушует ветер. Но что, если он лишится сознания или если боль продлится так долго и будет столь сильной, что, даже не убивая, сделает невозможным внутреннее присутствие? Если она продлится, он будет размышлять, что следует делать; ибо даже в этом не отнята у него способность к свободному выбору (τὸ αὐτεξούσιον). Нужно понимать, что вещи будут представляться серьёзному человеку не так, как другим, и ничто внешнее – ни страдания, ни скорби – не проникнет в его внутреннюю сущность. А когда речь идёт о страданиях других? Это было бы слабостью нашей души. Об этом свидетельствует и то, что мы считаем выгодой, когда несчастья. проходят мимо нас, и полагаем выгодой для себя, когда мы умираем, если такое происходит, – заботясь уже не о них, а о себе, чтобы не страдать. Это уже наша слабость, которую нужно устранять, а не, оставляя её, бояться, как бы она не проявилась.