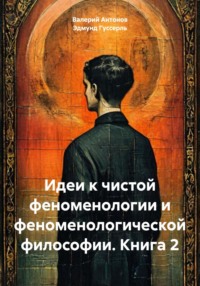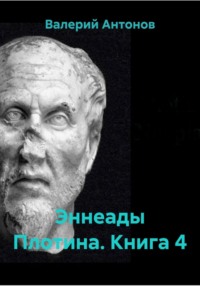Полная версия
Эннеады Плотина
3. О необходимости вечного излучения и природе бытия.
Развивая метафору света, Плотин выстраивает онтологический принцип необходимости и щедрости. Реальность мыслится как непрерывная, динамичная иерархия, где каждое высшее начало по самой своей природе изливается вовне, передавая бытие последующему. Мировая Душа, будучи вечно озарённой светом Ума, сама становится источником нисходящего излучения, которое питает, поддерживает и оживотворяет всё нижележащее, в меру способности каждого к восприятию. Этот процесс не случаен и не прерывен; он есть необходимое следствие внутреннего избытка и совершенства высших начал. Подобно тому как огонь по необходимости согревает всё вокруг себя в пределах досягаемости, так и подлинное Благо, Ум и Душа не могут не сообщать от себя иного. Если бы Благо не сообщалось, оно не было бы благом; если бы Ум не излучал, он не был бы умом; если бы Душа не давала жизнь, она не была бы душой. Бытие, по самой своей сущности, есть деятельность, и эта деятельность необходимо распространяется вовне.
Из этого следует важнейший тезис об упорядоченной и вечной последовательности всего сущего. Все вещи связаны между собой непрерывной цепью, где каждое последующее существует благодаря причастности предыдущему. Поэтому мир не был создан однажды во времени, но пребывает в состоянии вечного становления (генезиса). То, что мы называем возникающим и преходящим, на самом деле непрестанно получает бытие от вечных начал. Подлинное уничтожение также невозможно для того, что имеет источник своего бытия вовне и не обладает им самодостаточно; такое существо не «умирает» в абсолютном смысле, но лишь перестаёт получать текущую форму, возвращаясь к материи. Сам же вопрос о возникновении или уничтожении материи лишён смысла в этой системе, ибо материя есть вечное необходимое условие для принятия форм, последний предел ослабления излучения.
Это приводит к решительному отрицанию гностического дуализма и изоляционизма божественного. Если бы божественные начала были полностью отъединены от мира, замкнуты в некоем отдельном месте, то мир был бы лишён порядка, красоты и жизни. Но поскольку это невозможно (ибо противоречит самой природе блага как изливающегося), то мир по необходимости озарён божественным светом. Современное звучание этого аргумента заключается в утверждении имманентной взаимосвязи всех уровней реальности: высшее не отчуждено от низшего, но присутствует в нём как его основание и организующий принцип, исключая тем самым как радикальный трансцендентизм, так и механистический материализм. Космос предстаёт не как творение, отличное от творца, а как вечное и необходимое сияние его сверхизбыточной полноты.
4. О нелепости идеи падения и совершенстве космоса как образа.
Плотин подвергает систематической критике гностическую идею о падении души как причине творения мира. Эта критика строится на анализе внутренних противоречий такой доктрины. Если душа мира согрешила и «потеряла крылья», то возникает ряд неразрешимых вопросов. Когда именно произошло это падение? Если оно вечно, то душа пребывает в заблуждении изначально, и её природа оказывается испорченной, что противоречит её божественному статусу. Если же оно началось во времени, то что было причиной такого внезапного изменения в вечной и неизменной сущности? Плотин отрицает сам акт «склонения» (невсис) как сознательное отпадение. Для него причина нисхождения души не в грехе или забвении, а, скорее, в её силе и избытке, который необходимо изливается, оставаясь при этом укоренённым в высшем.
Гипотеза о творении как следствии забвения высшего мира ведёт к абсурду. Если душа забыла умопостигаемые образцы, то из какого источника она черпает формы для творения? Если же она их помнит, то как можно говорить о полном забвении и падении? Логика Плотина подчёркивает, что творческий акт возможен лишь при сохранении причастности к образцу. Более того, идея, что душа создала мир ради почестей или славы, подобно ремесленнику, смехотворна и является грубым антропоморфизмом, проецирующим человеческие мотивы на божественную природу. Творение для души – не результат расчёта или волевого решения, а естественное и необходимое проявление её сущностной силы (фюсис).
Далее Плотин разбирает следствия гностического пессимизма. Если творение было ошибкой, то почему душа не раскаялась и не уничтожила мир немедленно? Если она ждёт спасения всех индивидуальных душ, то, учитывая испытанное ими зло, они должны были бы раз и навсегда отказаться от воплощения, и мир давно опустел бы. Однако этого не происходит, что свидетельствует против теории раскаяния.
Кульминацией аргументации является защита совершенства чувственного космоса как прекрасного и неизбежного образа (эйдолон, эйкон) умопостигаемого мира. Отрицать его красоту и порядок – значит требовать от копии, чтобы она была равна оригиналу, что логически невозможно. Каждый элемент этого мира – огонь, земля, небесная сфера, солнце – является наилучшим возможным отражением своей вечной идеи в сфере становления. Небесные движения демонстрируют точность и достоинство, а сам космос есть живое, одушевлённое и разумное подобие высшего мира. Таким образом, признавать существование зла и несовершенства в мире – не значит объявлять сам мир злым творением. Напротив, это значит подтверждать его статус как вторичного, но необходимого и прекрасного в своей мере отражения абсолютного Блага. Этот тезис имеет современное звучание как утверждение ценности имманентного мира и отрицание радикального эскапизма: совершенство следует искать не в бегстве от реальности, а в понимании её иерархической структуры и причастности к вечному источнику.
5. Критика антропоморфизма и защита божественности космоса.
Плотин обрушивается на гностическое мировоззрение, разоблачая его внутреннюю непоследовательность и антропоморфное высокомерие. Он указывает на парадокс: гностики, сами будучи людьми, обременёнными телом, страстями, гневом и страданием, дерзают презирать совершенные и вечные небесные тела. Они утверждают, что могут прикоснуться к умопостигаемому, но при этом отказывают в разуме и превосходном устроении солнцу и звёздам, которые пребывают в неизменном порядке и не подвержены пагубным изменениям, свойственным смертной природе. Это, по мысли Плотина, абсурдно: как существа, лишь недавно рождённые и запутанные обманчивыми впечатлениями, могут обладать бо́льшей мудростью, чем вечные небесные сущности, чьё бытие есть чистое и упорядоченное выражение разума?
Далее он вскрывает логическое противоречие в гностической антропологии. Они объявляют душу даже самого порочного человека бессмертной и божественной, но при этом отрицают причастность к бессмертию всего неба и светил, которые по своей природе несравненно прекраснее и чище. Они видят порядок, благолепие и стройность на небесах, но винят в беспорядке земную область, словно бессмертная душа намеренно избрала худшее место, уступив лучшее – смертной душе, стремящейся ввысь. Эта картина, по мнению Плотина, совершенно нелепа.
Особое внимание он уделяет критике гностического учения о «другой душе», которую они конструируют из смешения материальных стихий. Такое объяснение несостоятельно: смесь горячего, холодного, сухого и влажного может произвести лишь определённые физические качества, но не жизнь, сознание, волю или мысль. Как из позднейшего соединения этих четырёх элементов может возникнуть сила, связующая их? Приписывание такому конгломерату восприятия, рассудка и прочих высших способностей лишено всякого основания.
Наконец, Плотин разбирает гностический миф о «новой земле» – особом мире-логосе, созданном как убежище для спасённых душ. Эта идея порождает новые вопросы. Зачем понадобился этот новый мир, если есть совершенный умопостигаемый образец, который они же ненавидят в его земном отражении? Откуда взялся сам этот образец, если его создатель, по их же словам, уже склонился к здешним делам? Если этот мир был создан до нашего космоса как предосторожность для душ, то он явно не сработал, ибо души всё равно пали. Если же он создан после, путём извлечения формы из нашего мира, то одного знакомства с нашим миром должно было быть достаточно для предостережения. Если же они считают, что души сами носят в себе образ этого мира, то в чём тогда новизна их «логоса»? Таким образом, гностическая конструкция предстаёт как произвольное и внутренне противоречивое мифотворчество, не выдерживающее проверки рациональной последовательностью. Этот аргумент звучит современно как критика любых идеологических систем, которые, претендуя на духовное превосходство, строят картину мира на логических несообразностях и презрении к физической реальности.
6. О плагиате и искажении истинной философии.
Плотин переходит к финальному и весьма резкому обвинению гностиков: в интеллектуальном плагиате, искажении учения Платона и введении произвольных, лишённых основания сущностей. Он анализирует такие их концепты, как «поселения» (пароикэсис), «отпечатки» (антитипос) и «раскаяния» (метанойа). Если они трактуют их как состояния или переживания души (патэ) – например, раскаяние или восприятие образов вместо истинных сущностей – то это лишь новая терминология для описания уже известных философских процессов. Гностики лишь переиначивают на свой лад ясные и безыскусные образы Платона, такие как восхождение из пещеры к всё более истинному созерцанию. По сути, всё ценное в их системе заимствовано у Платона, а всё, что они изобретают для создания собственной «оригинальной» философии, оказывается за пределами истины.
Далее Плотин указывает на прямое заимствование: учение о судах, реках Аида и перевоплощениях – всё это из платоновской традиции. Стремление умножить число умопостигаемых сущностей – Бытие, Ум, Демиург, Душа – также восходит к словам Платона в «Тимее». Однако гностики не поняли глубины платоновской мысли. Они раздробили единое целое: приняли одно начало как покоящееся в себе, другое – как ум, созерцающий его, а третье – как «размышляющий» ум или душу-демиурга. Этим они утратили понимание истинной природы творящего начала. Более того, они искажают сам способ творения и опорочивают мнение Платона, будто сами постигли умопостигаемую природу, а он и другие блаженные мужи – нет.
Их метод, по Плотину, порочен: умножая умопостигаемые сущности, они лишь приближают божественное к чувственному и множественному, тогда как истинная задача – стремиться там к максимальной малочисленности. После Первоначала всё уже дано в Уме, который есть и первое мышление, и сущность, и все прочие прекрасные вещи. Третьим видом является Душа. Искать же различия душ в их страстях или низшей природе – значит бесчестить божественных мужей.
В заключение Плотин призывает к интеллектуальной честности. Нет никакой зависти в том, чтобы с ними не соглашаться. Но их метод – поносить эллинов и хвастаться своими учениями перед слушателями – неприемлем. Им следовало бы мирно и по-философски излагать свои собственные мнения, противопоставляя их старым учениям справедливо, глядя на истину, а не ища славы через осуждение мужей, издревле признанных добрыми не среди дурных людей. Ибо сказанное древними об умопостигаемом гораздо лучше и образованнее. Всё, что есть у гностиков ценного, взято у них, но приправлено неуместными добавлениями: введением полных возникновений и уничтожений, хулой на это вселенную, обвинением души в общении с телом, поношением Управителя всем этим, отождествлением Демиурга с душой и приписыванием ему тех же страстей, что и частичным душам. Это и есть итог их философского творчества – искажение великой традиции в угоду гордыне и созданию ложной оригинальности. Этот пассаж звучит как вневременное предостережение против сектантского высокомерия, догматизма и интеллектуальной недобросовестности, подменяющей поиск истины конструированием эзотерических систем.
7. О вечности космоса и различной природе души.
Утвердив вечность космоса как необходимое следствие вечности высших начал, Плотин переходит к тонкому различению между причастностью души к телу в человеке и в космосе. Он предостерегает от ошибочной аналогии: переносить опыт нашей, человеческой души, страдающей от связи с телом, на отношение мировой Души к космическому телу – всё равно что, наблюдая за судьбой горшечников или медников в благоустроенном городе, судить по ним обо всём граде. Управление целым принципиально иное, и оно не связано узами зависимости.
Ключевое различие заключается в положении и власти. Наша душа уже заключена в тело, подчинена возникшему телесному устроению. В космосе же, напротив, природа тела связана изначально силой мировой Души, которая сама не подчинена тому, что ею же упорядочено. Поэтому Душа космоса остаётся бесстрастной по отношению к нему. Напротив, мы не властны над нашим телом. Часть нашей души, обращённая к божественному, остаётся нетронутой и незатронутой, тогда как часть, дарующая жизнь телу, ничего от тела не получает. Поясняя это, Плотин приводит ряд ярких метафор: подобно привитому черенку, который, даже засыхая, позволяет растению-подвою жить своей жизнью; или подобно тому, как погашение твоего внутреннего огня не угашает всего огня во вселенной. Даже если бы всё космическое тело разрушилось, это не затронуло бы высшую Душу, ибо её бытие не зависит от конкретной материальной конфигурации.
Более того, сам способ организации различен. В живых существах душа с трудом удерживает ускользающие части в порядке, связывая их «вторыми узами». В космосе же телам некуда бежать из предустановленного порядка. Поэтому мировой Душе не нужно насильственно удерживать их внутри или вталкивать извне; они пребывают там, где их изначально определила природа. Зло и страдание возникают не из-за дурного устроения целого, а из-за неспособности отдельных частей вынести его совершенный порядок. Как в великом хоре, движущемся в слаженном порядке, черепаха, случайно попавшая на его путь, будет растоптана не потому, что хор плох, а потому, что она не может ни избежать его, ни встроиться в его ритм. Если бы она смогла встать в строй, она не пострадала бы. Так и в космосе: страдают лишь те части, которые не в силах выдержать или соответствовать совершенному порядку целого. Этот аргумент не только защищает провиденциальное управление, но и перекладывает ответственность за частное зло на несоответствие части гармонии целого, а не на злую волю творца.
8. О вечной причине творения и доказательствах совершенства космоса.
Вопрос «почему Демиург создал мир?» для Плотина лишён смысла, поскольку предполагает временное начало и изменение воли. Это равносильно вопросу «почему существует душа?» или «почему существует сам Демиург?». Искажение возникает, когда представляют творящее начало обратившимся от чего-то к чему-то и изменившимся. Подлинная причина творения лежит не в решении или повороте, а в самой природе высших сущностей. Их бытие есть вечная деятельность, и нисхождение – необходимое следствие их избытка. Поэтому нужно понять эту природу, чтобы прекратить необоснованные поношения достойного.
Плотин приглашает к созерцанию величия мирового управления, являющего мощь умопостигаемой природы. Вселенная живёт не фрагментарной жизнью, как малые существа в ней, рождающиеся и умирающие, но обладает непрерывной, явной, повсеместной и изобилующей жизнью, являющей непостижимую мудрость. Как же не назвать её прекрасным и очевидным изваянием умопостигаемых богов? Если же упрекнуть её в несовершенном подражании, то следует понять, что она подражает настолько, насколько это возможно для природного образа, и ничего не упущено из того, что могло быть в прекрасном естественном подобии. Ибо подражание это не результат расчёта или искусства; умопостигаемое не может быть последним, у него необходимо есть двойная энергия: одна пребывает в нём самом, другая обращена к иному. Должно быть нечто после него, ибо только у Единого нет ничего ниже, что было бы признаком абсолютного совершенства, а не бессилия. Божественная сила там столь чудесна, что она и производит. Если бы мог быть мир лучше этого, то какой? Но если мир необходимо должен существовать, а другого нет, то этот мир и есть тот, что сохраняет подобие высшему.
Далее Плотин перечисляет доказательства совершенства космоса: земля полна разнообразных живых существ, всё вплоть до неба исполнено жизни, звёзды и светила движутся в порядке и круговращаются в космосе. Почему же они не должны обладать добродетелью? Им не мешают те вещи, что делают дурными людей: страсти, телесные немощи, нужда. Напротив, они вечно пребывают в досуге, мыслят и воспринимают Бога и других умопостигаемых богов. Как же наша мудрость может быть лучше их?
Наконец, он обращается к судьбе человеческих душ. Если они пришли в мир по принуждению мировой Души, то как принуждённые могут быть лучше той, что принудила? Ибо в душах правящее начало выше. Если же они пришли по собственной воле, то в чём упрёк миру, который даёт и возможность уйти, если он не нравится? Более того, если этот космос таков, что в нём возможно обрести мудрость и жить, находясь здесь, согласно тем высшим принципам, то разве это не свидетельствует о его прямой зависимости от них? Космос, таким образом, есть не тюрьма, а школа и храм, где через созерцание его порядка душа может восходить к своему источнику. Этот аргумент направлен против всякого мировоззренческого пессимизма и утверждает имманентную ценность упорядоченного природного целого как пути к трансцендентному.
9. Об оправдании неравенства, божественном промысле и гностической гордыне.
Плотин переходит к ответу на конкретные моральные возражения против устройства мира, такие как неравенство в богатстве и бедности. Он утверждает, что подлинно достойный человек не ищет равенства в этих внешних вещах и не считает обладателей многого превосходящими себя. Его стремление иное, и он оставляет подобную погоню другим. Жизнь здесь двояка: для достойных она устремлена к высшему, для большинства людей – более человечна и тоже делится на тех, кто помнит о добродетели, и дурную толпу, служащую по необходимости более порядочным. Преступления, слабости и страсти в мире столь же естественны, как ошибки у детей, ещё не достигших зрелости души. Сам мир можно уподобить гимнасию, где есть победители и побеждённые, и в этом также есть свой порядок. Для бессмертной души даже несправедливость или убийство со стороны другого не есть конечное зло; более того, закон позволяет покинуть общество, если оно не нравится.
Важно, признаёт Плотин, что в мире есть суды и наказания. Как же можно порицать град, который каждому воздаёт по заслугам? Здесь добродетель почитается, а порок получает должное бесчестие. Боги не только присутствуют в виде изваяний, но и сами взирают свыше, легко, как говорит Платон, избегая ответственности перед людьми, ибо они ведут всё от начала к концу в порядке, даруя каждому подобающий жребий согласно воздаянию за предшествующие жизни. Кто этого не понимает, тот невежественно дерзок в божественных делах.
Затем Плотин излагает позитивную программу: следует стремиться стать наилучшим самому, но не думать, что лишь ты один способен на это. Надо верить, что и другие люди могут быть лучшими, а также добрые демоны, и тем более боги – как пребывающие здесь, взирающие туда, и в первую всем – Владыка всего этого мира, блаженнейшая Душа. Затем надлежит воспевать умопостигаемых богов, а над всеми – великого Царя тамошнего, являющего своё величие именно в множестве богов. Ибо сила Бога познаётся не в сведении к одному, а в указании на обширность божественного, насколько он сам её явил, оставаясь тем, кто он есть, он производит многих, всех зависящих от него, через него и от него сущих.
И этот космос существует через Него и взирает на Него. Каждый бог пророчествует людям и использует то, что им любезно. Если же они не суть то, что есть Он, – такова их природа.
Далее следует суровая критика гностической гордыни. Если же ты, человек, желаешь смотреть свысока и важничать, считая себя не худшим, то знай: чем кто лучше, тем он благосклоннее ко всем, в том числе к людям. Достоинство должно быть в меру, без грубости, восходя лишь настолько, насколько позволяет наша природа, признавая, что и другим есть место у Бога, а не одному тебе рядом с Ним. Иначе, возомнив себя единственным избранным, ты лишь воспаришь в сновидениях, лишив себя возможности стать насколько может душа человека подобной Богу. А может она настолько, насколько ведёт её ум; что же выше ума – уже вне ума.
Неразумные люди легко поддаются таким речам, внезапно слыша, что станешь лучше всех не только людей, но и богов (ибо в людях велика самонадеянность). И человек, прежде скромный и простой, услышав: «Ты – сын Бога, а другие, кого ты чтил, – не сыны, и почтенные ими отцы – ничто, а ты сильнее и неба, ничего для того не сделав», – поддаётся, особенно когда другие подхватывают это. Это подобно тому, как если бы среди не знающих счёта человек, не знающий, что такое тысяча локтей, лишь воображал бы, что тысяча – большое число, и считал бы себя тысячелоктевым, а других – пятилоктевыми.
И наконец, Плотин задаёт убийственный риторический вопрос: если, как утверждают гностики, Бог печётся о вас, то почему же Он небрежёт всем космосом, в котором и вы пребываете? Если Ему недосуг или неприлично взирать вниз, то, взирая на вас, разве Он не взирает вовне? А если не взирает вовне, чтобы не видеть космос, то и вас не видит. Но вы в Нём не нуждаетесь? Однако космос нуждается и знает Его порядок, и знают те, кто в нём, как в нём пребывать и как – там. И мужей, что дружны с Богом, кротко переносящих то, что нисходит на них от космоса по необходимости от движения всего (ибо надлежит взирать не на прихоть каждого, а на целое), чтящих каждого по достоинству и всегда стремящихся туда, куда стремятся все способные к тому. Многое там стремится, и достигшие блаженны, а прочие имеют подобающий им удел, насколько возможно. Но они не присваивают себе единолично эту способность, ибо то, что они заявляют как обладание, на деле – не обладание. Многие, зная, что не имеют, говорят, что имеют, и думают, что имеют, не имея, и что лишь они обладают тем, чем они одни не обладают.
10. О методе полемики и высшей нелепости гностического мифа.
Завершая трактат, Плотин указывает, что при желании можно было бы привести ещё множество, а точнее, бесчисленные доводы в защиту каждого положения, демонстрируя, как всё обстоит на деле. Однако его удерживает некое чувство стыда перед некоторыми друзьями, которые, познакомившись с этим гностическим учением раньше, чем сблизились с ним, остаются, он не знает почему, приверженцами его. При этом сами гностики не стесняются – желая, чтобы их мнения считались истинными и заслуживающими доверия, или же искренне веря в их истинность – говорить то, что говорят. Но Плотин пишет не для них (ибо нет пользы в том, чтобы их переубеждать), а для своих знакомых, чтобы те не терпели беспокойства от их притязаний, основанных не на доказательствах (ибо откуда им взяться?), а на голом упрямстве.
Плотин отмечает, что существует иной способ полемики, которым можно было бы защищать древних и божественных мужей от поношения тех, кто дерзает хулить их правильно и в согласии с истиной сказанные слова. Такой способ исследования следует оставить. Ибо тем, кто точно поймёт сказанное здесь, будет ясно и обо всём остальном, как оно обстоит. Но одно следует сказать в заключение, и это превосходит всякую меру нелепости, если только это можно назвать нелепостью.
Воспроизводя гностический миф, Плотин доводит его абсурдность до предела: утверждая, что душа склонилась вниз и что некая «Премудрость» (София) – будь то сама душа, начавшая это, или причина такой премудрости, или же они тождественны – они говорят, что все прочие души сошли вместе с ней и являются членами этой премудрости. Эти-то души, по их словам, и облеклись в тела, например, человеческие. А та самая, ради которой и они сошли, – её, говорят они, опять-таки не сошла, то есть не склонилась, но лишь озарила тьму, и от неё затем возникло отображение в материи. Потом, вылепив из этого отображения ещё одно отображение уже здесь, из материи или материальности (или как они это ни назови), говоря то одно, то другое и нагромождая множество имён для затемнения смысла, они порождают так называемого у них Демиурга и, оторвав его от матери, заставив создать мир, низводят его до последних пределов отображений, – так что сильно поносит того, кто это написал.
Этим саркастическим резюме гностического мифотворчества Плотин подводит итог: учение это не только противоречиво и заимствовано, но и достигает вершины бессмысленности в своей собственной мифологической структуре, порождая бесконечные и ненужные сущности (эйдола эйдолон) и затем хуля собственное же порождение. Это есть окончательный приговор со стороны философского разума, требующего ясности, простоты и внутренней согласованности, против произвольного и затемнённого мифологизма, прикрывающегося претензией на высшее знание.