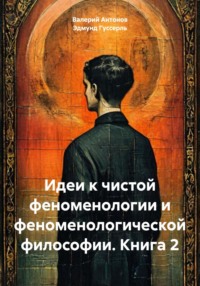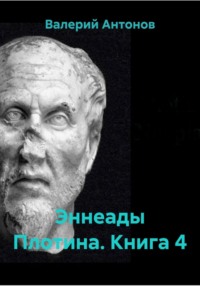Полная версия
Эннеады Плотина
11. Разбор внутренних противоречий гностического мифа.
Начиная заключительную критику, Плотин детально разбирает гностический миф о Софии и её «излучении», выявляя его внутреннюю несостоятельность на каждом шагу. Первый вопрос: если она не сошла, а лишь озарила тьму, то как можно говорить, что она «склонилась»? Если от неё что-то истекло, подобно свету, это ещё не значит, что она сама склонилась. Разве что если что-то уже лежало внизу, а она приблизилась к нему пространственно и, став близко, озарила. Но если она, оставаясь на своём месте, озарила, не приложив к этому усилий, то почему озарила только она, а не более могущественные, чем она, сущности? Если же она смогла озарить благодаря тому, что замыслила мир, то почему, озарив, она не создала мир сразу, а остановилась на порождении призраков?
Далее, и сам этот замысел мира, их так называемая «чужая земля», созданная высшими силами, по их же словам, не привёл к склонению тех, кто её создал. Затем: как материя, будучи озарённой, производит душевные призраки, а не природу тел? Призрак души вообще не нуждался бы во тьме или материи, а, возникнув, следовал бы за своим творцом и был бы с ним связан.
Затем вопрос: это призрак – сущность или, как они говорят, мысленный образ? Если сущность, то чем она отличается от своего источника? Если же это иной вид души, и если та была разумной, то, возможно, эта – растительная и порождающая. Но если так, то как она ещё может творить ради почёта, а тем более – из дерзости и наглости? И вообще, всякое творение через фантазию, а тем более через расчёт, исключается. Да и к чему было ещё создавать творца из материи и призрака? Если же это мысленный образ, то, во-первых, надо указать источник этого термина; во-вторых, как он существует, если не наделить сам мысленный образ способностью творить? Но при таком вымысле – как возможно творение? Сначала это, потом то – словно они говорят с полной произвольностью.
И наконец, самый простой и разоблачительный вопрос: почему первым был создан огонь? Этот внезапный и наивный вопрос обрывает сложные спекуляции, возвращая к элементарной необоснованности их космогонической схемы. Вся конструкция оказывается произвольным нагромождением сущностей, лишённым внутренней необходимости и логической связности, что и демонстрирует её философскую несостоятельность. Этот метод критики, разбирающий теорию на составные части и показывающий их нестыковку, остаётся классическим образцом рациональной полемики против догматического мифотворчества.
12. О невозможности творения по памяти и истинных причинах космоса.
Плотин продолжает критику, сосредотачиваясь на нелепости творческого акта гностического Демиурга. Согласно их мифу, этот только что возникший призрак (эйдолон) принимается за творение по памяти (мнэмэ) того, что он видел. Но, возражает Плотин, в принципе не существовало ни его самого, ни его «матери» (Софии), чтобы им было что видеть! Если же допустить это, то возникает вопиющее противоречие: сами гностики признают, что их собственные, подлинные души, пришедшие в этот мир, – не призраки, а истинные души, – лишь с трудом и едва ли одна-две из них могут оторваться от мира и с великим трудом восстановить в памяти то, что когда-то видели. Как же тогда этот материальный призрак, только что возникший, и к тому же, как они говорят, смутный, может не только вспомнить те вещи или свою мать, но и получить понятие о том мире и даже понять, из чего следует творить? Откуда, например, взялась мысль создать первым именно огонь? Разве он решил, что это нужно? Но почему не что-то иное? Если он мог создать огонь, просто подумав о нему, то почему, подумав о мире (а сначала надо было подумать именно о целом), он не создал мир весь сразу, одним махом? Ведь и огонь, и всё прочее уже содержалось в этой мысли.
Плотин противопоставляет этому искусственный, ремесленный образ творения естественному, природному. Гностический Демиург действует как ремесленник, последовательно собирающий части, подобно ремесленнику или художнику, как если бы он был изобретателем, скажем, цитры, которой ранее не существовало. Такие искусства (технэ) вторичны по отношению к природе и космосу. В природе же всё происходит иначе: когда образуются живые существа, не возникает сначала огонь, потом каждый элемент, потом их смешение. Нет, происходит облечение и очертание, накладывающее отпечаток на менструальной крови, сразу формирующее всё живое целое. Почему же там материя не была сразу обведена отпечатком мира, в котором были бы уже и земля, и огонь, и всё остальное? Возможно, они скажут, что сами бы так создали мир, пользуясь более истинной душой, а тот Демиург так создать не умел. Но это абсурдно: предусмотреть величину неба, точнее, его именно такую величину, наклон зодиака, движение планет, устроение земли так, чтобы можно было указать причины, почему всё так, – это не дело призрака, а явно результат силы, исходящей от наилучшего. Что, кстати, они и сами невольно признают.
Далее Плотин возвращается к ключевому моменту – «озарению тьмы». Если озарение необходимо, то оно либо согласно природе, либо вопреки природе. Если согласно природе, то так было всегда (и космос вечен). Если же вопреки природе, то противоестественное уже существует «там», в умопостигаемом, и зло предшествует этому миру; и не космос причина зол, а тамошние вещи – ему; и душа приносит зло не отсюда, а от себя самой. И рассуждение неизбежно возведёт космос к первым причинам. То же и с материей: откуда она явилась? Ибо душа, склонившись, уже увидела, как они говорят, существующую тьму и озарила её. Но откуда же сама тьма? Если же они скажут, что она сама произвела её, склонившись, то, значит, не было того, куда бы она склонилась, и не тьма была причиной склонения, а сама природа души. Но это то же самое, что и предыдущие необходимости. Следовательно, причина опять-таки в первоначалах.
Таким образом, все попытки гностиков вывести зло и несовершенство из некоего промежуточного падения или заблуждения ведут к логическому тупику, заставляя в конечном счёте искать причину либо в вечной природе высших начал (что ведёт к признанию необходимости и вечности космоса), либо в них же как источнике зла (что разрушает их же концепцию блага). Плотин последовательно показывает, что его стройная и экономная система, восходящая от совершенного космоса к простому Единому, логически неизбежна и не оставляет места для произвольных и противоречивых мифологем.
13. О невежестве хулящих космос и природе зла.
Тот, кто порицает природу космоса, не ведает, что творит, и не понимает, куда заводит его эта дерзость. Невежество это проистекает из незнания порядка последовательных начал: первых, вторых, третьих и так вплоть до последних. Не должно поносить худшее из-за лучшего, но следует кротко согласиться с природой всего, самому устремляясь к первому и оставив трагедию мнимых ужасов в сферах космоса, которые, в сущности, творят для них всё благостным. Ибо что страшного в них, чтобы пугать неискушённых в рассуждениях, не слышавших образованного и гармоничного знания? Не потому ли, что тела их огненны? Но страшиться надо соразмерно целому и с оглядкой на землю, а взирать следует на их души, коим и они, несомненно, желают быть почтенными. Да и тела их, превосходящие величиной и красотой, содействуют и помогают происходящему по природе, чему никогда не быть, пока есть первые начала, и они дополняют целое, будучи великими частями вселенной. Если человек имеет некое достоинство перед прочими животными, то тем более эти светила, пребывающие во всём не ради тирании, а ради того, чтобы давать миру порядок и строй.
А то, что говорят о происходящем от них, следует считать знамениями грядущего. Происходящее же бывает различным и зависит от случайностей (ибо невозможно, чтобы с каждым случалось одно и то же), от сроков рождений, от мест, весьма удалённых друг от друга, и от состояний душ. Не должно вновь требовать, чтобы все были хороши, и, поскольку это невозможно, не спешить порицать, словно эти вещи ничем не отличаются от тех. И зло не должно считать чем-то иным, кроме как недостаточным в отношении разумения и меньшим благом, всегда движущимся к меньшему. Как если бы кто называл природу злом, потому что она не есть ощущение, а ощущающее – потому что оно не есть разум. Иначе они будут вынуждены признать, что и там есть зло: ибо и там душа хуже ума, а ум – меньше иного.
Этим финальным рассуждением Плотин не только защищает космос, но и даёт онтологическое определение зла. Зло – не положительная сущность, а недостаток, лишённость, ослабление блага, необходимо возникающее при удалении от Первоначала. Оно не врывается в мир извне через злую волю, а проистекает из самой структуры бытия как его последний и наименее совершенный предел. Поэтому порицать мир за наличие зла – значит не понимать самой природы иерархической реальности. Истинная задача – не хулить низшее, а устремляться к высшему, преодолевая в себе то самое «движение к меньшему», которое и есть корень всякого несовершенства. В этом заключён глубокий этический императив: вместо того чтобы проецировать своё недовольство на мироздание, следует заняться самосовершенствованием, признавая космос необходимым и прекрасным отражением высшего Блага.
14. О магических практиках и истинной философской простоте.
Особое негодование Плотина вызывает магический и теургический аспект гностического учения, который, по его мнению, особенно ярко демонстрирует его несостоятельность и профанацию высшего. Он обличает практику заклинаний (эпаойда), которые гностики адресуют не только душам, но и высшим сущностям. Что они делают, как не колдовство, чары и попытки убедить и подчинить разумом эти сущности, чтобы те повиновались словам? Они полагают, что тот, кто искуснее в произнесении определённых заклинаний, звуков, напевов, выдохов и шипений, может магически воздействовать на умопостигаемое. Но если они не хотят признавать это колдовством, то как могут бестелесные сущности подчиняться голосам? Таким образом, те, кто стремится придать своим речам больше величия, сами того не замечая, лишают величия те самые сущности, к которым взывают.
Переходя к медицинским претензиям, Плотин разбирает утверждения об изгнании болезней как демонов. Если бы они говорили об очищении через воздержание и умеренный образ жизни, как учат философы, это было бы правильно. Но они, предполагая, что болезни суть демоны, и утверждая, что могут изгонять их заклинаниями, кажутся более внушительными в глазах толпы, восхищающейся силой магов, но не убеждают здравомыслящих. Ибо причины болезненны очевидны: усталость, пресыщение, недостаток, разложение, вообще изменения, берущие начало извне или изнутри. Об этом свидетельствуют и методы лечения: когда желудок очищается или даётся лекарство, болезнь выходит наружу; кровопускание или голод также исцеляют. Что же тогда происходит с демоном? Если он проголодался от лекарства или растворился, или вышел целиком, или остался внутри? Если остался, то почему при его присутствии болезнь прекращается? Если вышел, то почему? Разве что потому, что он питался болезнью. Значит, болезнь была отлична от демона. Далее: если демон входит без причины, почему мы не болеем всегда? Если же для входа нужна причина, то зачем нужен демон для самой болезни? Причина лихорадки сама по себе достаточна, чтобы её произвести. Смешно предполагать, что одновременно с причиной тут же как бы подставляется готовый демон.
Плотин подчёркивает, что цель его критики ясна: именно ради этого он и упомянул об этих демонических теориях. Остальное он оставляет читателям для самостоятельного изучения и наблюдения, с одним ключевым критерием: вид философии, который исповедует он сам, наряду со всеми прочими благами являет простоту нрава вместе с чистым мышлением, стремится к достоинству, а не наглости, к разумной отваге с большой осмотрительностью, осторожностью и величайшей осмотрительностью. Всё же прочее должно быть сопоставлено с этим образцом. Учение же их, напротив, устроено совершенно противоположным образом во всём. Ибо больше нечего сказать; так следует нам говорить о них.
Этим заключением Плотин не просто критикует конкретные практики, а устанавливает фундаментальный водораздел между подлинной философией, ищущей внутреннего преображения через понимание и этическую практику, и гностическим синкретизмом, замещающим это понимание внешним ритуалом, магией и горделивыми спекуляциями. Истинная мудрость сопряжена со скромностью, осторожностью и чистотой ума, тогда как ложное знание ведёт к самонадеянности и профанации священного. Этот пассаж звучит как вневременное предостережение против подмены духовного роста оккультными техниками и интеллектуальной гордыней.
15. О нравственных последствиях гностического учения.
Завершая трактат, Плотин ставит ключевой вопрос о нравственном и психологическом воздействии гностических доктрин на души слушателей, убеждённых презирать космос и всё в нём сущее. Это воздействие он рассматривает в контексте двух основных жизненных ориентаций (аирэсэис): одна полагает целью телесное удовольствие, другая избирает прекрасное и добродетель, влечение к которым укоренено в Боге и ведёт к Богу. Эпикур, упразднив промысел, призывает преследовать удовольствие и наслаждение как единственное оставшееся. Гностическое же учение, по мнению Плотина, действует ещё более пагубно и дерзко: понося самого Владыку промысла и сам промысел, бесчестя все здешние законы и добродетель, открытую за всё течение времени, а также относя к смеху само воздержание (сопросинэ), оно добивается того, чтобы здесь не усматривалось никакое благо. Тем самым оно упраздняет и воздержание, и врождённую в нравах справедливость, совершенствуемую разумом и упражнением, и вообще всё, благодаря чему человек мог бы стать достойным.
Таким образом, последователям этого учения остаётся лишь удовольствие, забота лишь о себе, отказ от общности с другими людьми и погоня за одной лишь полезностью – если только кто-то своей природой не окажется сильнее этих речей. Ибо в этой системе для них нет ничего прекрасного, но есть нечто иное, что они когда-нибудь станут преследовать. Хотя им следовало бы, уже познав это отсюда, стремиться туда, а стремясь, сначала достигнуть праведности здесь, ибо они пришли от божественной природы. От той природы, что внемлет прекрасному и презирает телесное удовольствие. Тем же, кто не причастен добродетели, вовсе не двинуться к тем высотам.
Показательно и то, что они не создали никакого учения о добродетели, полностью пренебрегли рассуждением о ней: не говорят, что она такое, сколько её видов, не рассматривают множество прекрасных вещей, открытых в речах древних, не указывают, из чего она состоит и как обретается, как врачуется и очищается душа. Ведь сказать «взирай на Бога» не приносит пользы, если не учит, как именно взирать. Ибо что мешает, скажет кто-нибудь, взирать и при этом не воздерживаться ни от каких удовольствий или быть необузданным в гневе, помня лишь имя Бога, но будучи охваченным всеми страстями и не пытаясь ни одну из них изгнать? Добродетель же, восходя к цели и вселившись в душу вместе с рассудительностью, являет Бога. Без же подлинной добродетели Бог есть лишь имя.
Этим финальным аккордом Плотин обнажает главную опасность гностицизма: его разрушительное воздействие на этику. Отрицая ценность космоса, его законов и традиционной добродетели, учение это подрывает саму основу нравственного совершенствования, оставляя человека во власти страстей под прикрытием ложной духовности. Истинный путь к божественному лежит не через презрение к творению, а через воспитание в себе справедливости, воздержания и разумения внутри этого мира, который сам есть образ высшего Блага. Таким образом, трактат завершается утверждением неразрывной связи космологии, этики и теологии: познание Бога невозможно без нравственного очищения, а нравственное очищение невозможно без признания благости и порядка мироздания.
16. О нечестии презрения к миру и его богам.
Плотин завершает трактат всесторонним обличением нечестия, заключённого в гностическом презрении к космосу и его богам. Он утверждает, что само это презрение не только не способствует становлению благим, но является признаком и причиной порочности. Всякий дурной человек и прежде того готов презирать богов; и не каждый, прежде чем стать дурным, презирает их, но сам факт презрения уже делает его таковым. Более того, даже их предполагаемое почитание умопостигаемых богов становится бесчувственным и лицемерным. Ибо тот, кто имеет любовь и родство к чему бы то ни было, с любовью принимает и детей того, кого любит как отца. А всякая душа – дитя того Отца. Души же, пребывающие в этих светилах, – разумны, благи и гораздо более сопряжены с умопостигаемым, чем наши. Ибо как мог бы этот космос быть отрезанным от него? И как – боги в нём?
Возвращаясь к теме промысла, Плотин вскрывает очередное противоречие. Утверждать, что промысел не простирается на здешние вещи или на что-либо, – как это благочестиво? И как это согласуется с их же словами, что Он печётся только о них? Печётся ли о них, когда они там, или и когда они здесь? Если там, то как они сюда пришли? Если здесь, то как они ещё здесь? И как Он Сам не присутствует здесь? Ибо откуда Он узнает, что они здесь? И как узнает, что они, будучи здесь, не забыли Его и не стали дурными? Если же Он знает тех, кто не стал дурным, то знает и тех, кто стал, чтобы отличить их от первых. Следовательно, Он присутствует всем и будет в этом космосе, каким бы ни был Его способ присутствия. А значит, и космос будет причастен Ему. Если же Он отсутствует для космоса, то отсутствует и для вас, и вы не могли бы говорить ни о Нём, ни о последующих сущностях.
Но если к вам приходит некий промысел оттуда, или что вы там ни хотите, то и космос имеет оттуда же и не оставлен, и не будет оставлен. Ибо промысел и причастность к целому гораздо больше, чем к частям, и тем более от той Души. Об этом свидетельствует само бытие космоса и его разумное устроение. Кто из высокомерно неразумных столь упорядочен и разумен, как целое? Сопоставлять – и смешно, и весьма нелепо, и тот, кто сопоставляет не ради рассуждения, не избегнет нечестия. Да и исследовать это – дело не разумного, а слепого, совершенно лишённого и чувства, и ума и далёкого от того, чтобы видеть умопостигаемый космос, который не видит этот.
Плотин завершает величественным эстетическим и духовным аргументом. Какой музыкант, увидев гармонию в умопостигаемом, не придёт в движение, услышав её в чувственных звуках? Или какой знаток геометрии и чисел, увидев соразмерность, пропорцию и порядок зримо, не возрадуется? Ведь не одинаково видят одно и то же даже на картинах те, кто видит взором искусства, но, узнавая в чувственном подражание тому, что пребывает в мысли, они как бы взволнованно приходят в воспоминание об истинном; от этого-то переживания и рождаются влюблённости. Но если видящий красоту, хорошо переданную в лице, устремляется туда, то настолько ли вял будет умом и ни к чему иному не подвигнется тот, кто, видя все красоты в чувственном, всю соразмерность, этот великий порядок и являющийся в звёздах образ, хотя и далёких, – не размышляет отсюда и не объят благоговением, помышляя, сколь великое от сколь великих? Значит, он не постиг ни эти вещи, ни те не видел.
Этим финальным пассажем Плотин утверждает космос как необходимую и прекрасную школу души, путь к божественному через созерцание его порядка и красоты. Истинный философ, подобно музыканту или геометру, видит в чувственном мире отблеск умопостигаемых истин и, восхищаясь им, восходит к их источнику. Презрение же к миру есть признак глухоты и слепоты души, неспособной ни к истинному восприятию, ни к подлинному знанию. Так трактат замыкает круг: защита космоса оказывается не просто полемикой с оппонентами, но утверждением самого метода философского познания, основанного на любви, благоговении и способности видеть единство всего сущего в его иерархической гармонии.
17. О созерцании умопостигаемой сферы и природе красоты.
Плотин обращается к возможному источнику гностической неприязни к телесной природе – платоновской критике тела как помехи для души. Но, утверждает он, даже если они, услышав от Платона много порицаний в адрес тела, почувствовали к нему ненависть, им следовало бы мысленно отбросить эту телесность и увидеть остающееся: умопостигаемую сферу, заключающую в себе форму, лежащую в основе космоса, души в порядке, которые без тел дают величие, приводя умопостигаемое к протяжённости, так чтобы величием возникшего бесплотное уподобилось в возможности образцу. Ибо то, что там велико в возможности, здесь – в объёме.
И хотят ли они мыслить эту сферу движущейся, вращаемой божественной силой, имеющей начало, середину и конец всего, или же пребывающей в покое как ещё не управляющей чем-то иным, – хорошо было бы прийти к понятию души, управляющей этим всем. Затем, уже присоединив к ней тело, – так что она не пострадает, но даст иному, ибо не должно быть зависти у богов, – иметь так, чтобы каждое получало, что может, и так им мыслить согласно космосу, давая душе космоса столько силы, насколько она, сделав не прекрасную по себе телесную природу, насколько возможно для неё прекрасной, причастной красоте. Это и самих божественных душ приводит в движение.
Разве что они сами скажут, что не приводятся в движение и не видят различно безобразные и прекрасные тела. Но так они не видят различно и безобразные и прекрасные занятия, ни прекрасные науки, а значит, и не видят созерцаний, а значит, и Бога. Ибо через эти первые [прекрасные вещи] – те. Если же не эти, то и не те; после тех – эти прекрасны.
Когда же они говорят, что презирают здешнюю красоту, хорошо бы им было презирать красоту в детях и женщинах, чтобы не быть побеждёнными невоздержанностью. Но следует знать, что они не гордились бы, если бы презирали безобразное, а гордятся, сказав сначала, что оно прекрасно. И как они при этом расположены? Затем, что не одно и то же красота в части и в целом, во всех и во всём. Затем, что есть такие красоты и в чувственном, и в частичном, какие принадлежат демонам, так что приходится удивляться создавшему и верить, что это оттуда, и отсюда невозможно выразить ту красоту, не удерживаясь за эти [образы], но идя от них к тем, не понося эти. И если внутреннее тоже прекрасно, говорить, что они согласны друг с другом; если же внутреннее дурно, что они уступают лучшим. Но, возможно, не бывает так, чтобы нечто было по-настоящему прекрасным снаружи, будучи безобразным внутри. Ибо у кого внешнее все прекрасно, то это от того, что внутреннее им владеет. А те, кого называют прекрасными снаружи, будучи безобразными внутри, – ложны, и внешнюю красоту имеют ложную. Если же кто скажет, что видел поистине прекрасных снаружи, но безобразных внутри, я думаю, он не видел, а считает прекрасными других. Если же и так, то безобразие для них приобретённое, по природе же они прекрасны; ибо много здесь препятствий для достижения совершенства. Но целому, будучи прекрасным, что мешало быть прекрасным и внутренне? Да и тем, кому природа с самого начала не дала совершенства, тем, возможно, и не суждено достичь конца, так что они могут стать и дурными; но целое никогда не было дитятей, чтобы быть несовершенным, и не присоединялось к нему нечто приходящее и добавляющееся к телу. Ибо откуда? Оно всё уже имело. Да и к душе никто не мог бы что-то прилепить. Но если бы и уступили им это, то всё равно не зло.
Этим сложным рассуждением Плотин возвращает дискуссию в русло подлинно платоновской эстетики и онтологии. Красота чувственного мира – не обман и не ловушка, а необходимый отблеск высшей красоты, который должен не презираться, а служить ступенью для восхождения. Полнота и совершенство космоса как целого гарантированы его вечным происхождением от совершенного образца; его «внутреннее» (его душа и умопостигаемая форма) прекрасно, и потому его «внешнее» (телесное проявление) не может быть по-настоящему безобразным. Таким образом, этический императив заключается не в отвержении мира, а в правильном созерцании его красоты как пути к абсолютному Благу. Гностическое же презрение оказывается следствием непонимания этой иерархии и неспособности к подлинному созерцанию, которое одно только и открывает божественное как в малом, так и в великом.
18. О правильном отношении к космосу и его обитателям.
На возможное возражение, что их (гностиков) речи побуждают бежать от тела издалека, ненавидя его, а его (Плотина) речи удерживают душу при нём, Плотин отвечает яркой аналогией. Это подобно двум жителям одного прекрасного дома: один порицает его устроение и строителя, но остаётся в нём не меньше другого; другой же не порицает, а говорит, что строитель создал его весьма искусно, ожидая времени, когда уйдёт туда, где больше не будет нуждаться в доме. Первый же считает себя мудрее и готовее уйти, потому что знает, как говорить, что стены сложены из бездушных камней и брёвен и далеки от истинного жилища, не понимая, что разница лишь в том, как переносить необходимое, если даже и не делать вид, что тяготишься, спокойно любуясь красотой камней. Но следует пребывать в домах, имея тело, устроенные душой-сестрой, доброй, имеющей великую силу творить без труда.