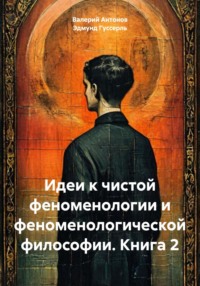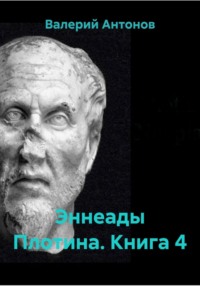Полная версия
Эннеады Плотина
7. О восхождении к Прекрасному-Благому: апофатический восторг.
Заключительный этап трактата посвящен описанию высшей ступени мистического восхождения, где душа встречается с Первоисточником – само́м Благом, которое есть одновременно и само́ Прекрасное (τὸ ἀγαθόν, ὅπερ καὶ τὸ καλόν). Чтобы узреть Его, необходимо вновь взойти ввысь, обратившись и совлекши все, во что мы облачились, нисходя вниз, – подобно тем, кто, поднимаясь в святилища, проходит очищения и снимает прежние одежды, чтобы предстать нагими. Восхождение требует последовательного отвержения всего чуждого божественному, пока путник не увидит одиноким и единственным (αὐτῶι μόνωι αὐτὸ μόνον) простую, чистую, беспримесную (ἁπλοῦν, καθαρόν, εἰλικρινές) реальность, от которой все зависит, к которой все устремлено и благодаря которой все существует, живет и мыслит.
Тот, кто удостоился этого видения, испытывает не просто эстетическое удовольствие, а трансформирующий восторг, составляющий суть истинной любви. Пока душа не видела, она влечется к Нему как к Благу; узрев же, она пребывает в изумлении, сладостном потрясении и истинной любви (ἔρᾶν ἀληθῆ ἔρωτα). Прежние красоты, в том числе богов и демонов, теряют всякую притягательность – как может сравниться с Ним все прочее, если лишь Оно дарует красоту всему, само оставаясь непричастным никакой смеси, свободным от плоти, земли и неба? Это Прекрасное пребывает в себе (ἐφ᾽ ἑαυτοῦ), дает себя, ничего не принимая в себя (δίδωσι καὶ οὐ δέχεταί τι εἰς αὐτό). Пребывая в созерцании такого Начала и наслаждаясь Им, душа уподобляется Ему и более не нуждается ни в каком ином прекрасном, ибо это и есть Красота сама по себе, которая и делает влюбленных в нее прекрасными и достойными любви.
Плотин подчеркивает, что величайшая и последняя борьба (ἀγὼν μέγιστος καὶ ἔσχατος) душ состоит именно в том, чтобы не лишиться этого наилучшего созерцания. Обладающий им блажен, лишенный же – истинно несчастен (ἀτυχής). При этом несчастье заключается не в лишении телесной красоты, власти, царства или земных благ, но исключительно в лишении этого Единого. Ради достижения Его следует отринуть царства, власти над землей, морем и небом, если, оставив и презрев все это, обратиться и узреть То.
Логика всего трактата находит здесь свое завершение: иерархия красоты, начавшаяся с вопросов о телесных формах, приводит к апофатическому принципу, который есть чистая самотождественность и источающая щедрость. Современное звучание этого финала – в утверждении предельного приоритета духовного опыта: высшая ценность человеческого существования усматривается не в обладании внешними благами, а в экстатическом соединении с источником всякого смысла и красоты, что требует радикального самоотречения и внутреннего преображения. Плотин описывает не абстрактную идею, а живую встречу, которая переопределяет все шкалы ценностей и наполняет жизнь подлинным, неотчуждаемым содержанием.
8. О методе восхождения: внутренний поворот и пробуждение внутреннего зрения.
Естественным завершением восхождения к само́му Прекрасному становится вопрос о практическом пути: каков способ, каково орудие, как можно узреть эту непостижимую красоту, пребывающую внутри, в священных святилищах, не выходящую вовне, чтобы ее не увидел непосвященный? Ответ Плотина – это призыв к радикальному внутреннему повороту. Следует войти внутрь себя, оставив внешнее зрение очей и не обращаясь вспять к прежним блескам телесных красот. Видя прекрасные тела, нужно не устремляться к ним, но, распознав в них образы, следы и тени (εἰκόνες, ἴχνη, σκιαί), бежать к Тому, чьими отображениями они являются.
Здесь Плотин приводит глубокий мифологический образ: тот, кто, желая схватить как истинную красоту её отражение в воде (подобно тому, о ком повествует миф), ныряет в поток и исчезает. Так и тот, кто привязывается к прекрасным телам и не отпускает их (не телом, но душой), погрузится в темные и безрадостные для ума глубины, останется слепым в Аиде и здесь и там будет общаться лишь с тенями. Отсюда рождается знаменитый призыв: «Бежим же к милому отечеству!» Это отечество – то, откуда мы пришли, и Отец – там.
Но как совершить это бегство и это плавание? Плотин подчеркивает, что путь этот – не физический. Не ногами его пройти, ибо ноги лишь переносят с одной земли на другую; не нужно ни конной колесницы, ни корабля. Необходимо отринуть все это и, более того, перестать пользоваться обычным зрением. Следует, «словно закрыв глаза», обменять одно зрение на другое и пробудить то, которое есть у каждого, но пользуются которым немногие. Это пробуждение внутреннего зрения (ὄψιν ἄλλην) есть акт собирания души в самое себя, отворот от внешних образов и активация той самой высшей способности, которая способна узреть единое, простое и божественное. Путь к Абсолюту, таким образом, есть не внешнее путешествие, а внутренняя метанойя, требующая отказа от захваченности чувственными подобиями и мужественного обращения к собственной глубине, где уже пребывает искомый свет. Современный резонанс этой мысли – в утверждении, что доступ к подлинному смыслу и ценности требует не накопления внешних впечатлений или информации, а глубокой интроспекции, «закрывания глаз» на шум мира для того, чтобы услышать и увидеть внутреннюю, духовную реальность, составляющую нашу сущностную природу.
9. О самопреображении как условии видения: путь к умопостигаемому.
Разъясняя метод пробуждения внутреннего зрения, Плотин описывает процесс постепенного воспитания души, который одновременно является ее само-творчеством. Пробуждающаяся душа изначально не способна сразу вынести сияние высшего. Поэтому ее необходимо приучать последовательно: сначала созерцать прекрасные нравы и поступки не как внешние произведения искусства, но как дела добродетельных мужей; затем – усматривать красоту самой души, производящей эти прекрасные дела.
Здесь возникает центральный вопрос: как увидеть прекрасную душу? Ответ Плотина парадоксален и глубок: «Обратись к себе самому и смотри». Если ты еще не видишь себя прекрасным, следует поступить как ваятель, создающий прекрасную статую: устранять лишнее, выпрямлять кривое, очищать темное, полировать шероховатое, пока не явится прекрасный лик. Так и человек должен снимать с души все избыточное, выпрямлять искривленное, очищать темное, работать, пока не станет сияющим, и не переставать ваять свое собственное изваяние, пока не воссияет ему боговидное великолепие добродетели и не узреет он целомудрие, стоящее на священном основании.
Этот процесс само-ваяния и есть очищение, ведущее к единству. Когда человек стал этим (т.е. чистой добродетелью), увидел это и, очистившись, соединился с самим собой, не имея внутри ничего препятствующего единству, ничего постороннего, но весь став истинным светом – не измеренным величиной, не ограниченным формой, но неизмеримым и превосходящим всякую меру – тогда, увидев себя таким, он сам становится зрением. Обретя дерзновение и уже взойдя на высоту, он более не нуждается в проводнике; устремив взор, он видит. Ибо лишь этот глаз видит великую красоту. Напротив, если кто приступает к созерцанию, обремененный пороками, неочищенный или слабый от малодушия, он ничего не увидит, даже если другой укажет ему на присутствующую и видимую реальность.
Плотин формулирует фундаментальный онтологический принцип восприятия: видящее должно стать родственным и подобным видимому (τὸ ὁρῶν πρὸς τὸ ὁρώμενον συγγενὲς καὶ ὅμοιον ποιησάμενον). Как глаз не может видеть солнце, не став солнцевидным, так и душа не может узреть красоту, не став прекрасной. Следовательно, каждый должен сперва стать весь боговидным и прекрасным, если намерен созерцать Бога и Прекрасное. Только тогда, восходя к Уму, душа познает все прекрасные эйдосы и признает красотой именно их – идеи, ибо ими все прекрасно. Это красота умопостигаемого космоса, порождений и сущностей Ума.
Но за пределами этого Плотин указывает на высшее начало – природу Блага, которая пред-изливает (προβεβλημένον) красоту перед собой. В общем смысле (ὁλοσχερεῖ μὲν λόγωι) Первое есть Прекрасное; при раздельном же рассмотрении умопостигаемого прекрасным называют область эйдосов, а Благо – то, что за пределами, источник и начало красоты. Или же можно поместить Благо и Красоту в одно и то же Первое, с тем уточнением, что красота – именно там.
Тем самым, путь к созерцанию абсолютного оказывается неразрывно связан с этико-онтологическим преображением самого субъекта. Видение есть результат становления. Современный смысл этого учения – в утверждении нераздельности гносеологии и этики, познания и самосовершенствования. Истинное знание (особенно в сфере ценностей и смыслов) не может быть получено извне нейтральным наблюдателем; оно требует активного со-творчества, внутреннего уподобления познаваемому, превращения самого познающего в адекватный инструмент восприятия. Обретение духовного зрения есть, в конечном счете, творение себя по образу истинно сущего.
Седьмой
трактат
. Περὶ τοῦ πρώτου ἀγαθοῦ καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν.
Метафизика стремления: Благо как абсолютный покой и относительная деятельность.
В седьмом трактате Плотин предпринимает систематическую реконструкцию самой фундаментальной аксиологической категории – блага. Его изложение, разворачивающееся от критики расхожих определений к утверждению трансцендентного принципа, выстраивает не просто иерархию ценностей, но раскрывает динамическую онтологическую структуру реальности, где всё сущее определяется характером своего устремления.
Исходным пунктом становится не отрицание, а углубление классического эвдемонистического представления: благо для каждой вещи – это полное осуществление (ἐνέργεια) её природной функции. Однако это начало – лишь первая ступень диалектики. Плотин немедленно указывает на внутренний предел этого определения: если благо заключено в деятельности, направленной к чему-то иному, то должен существовать конечный предел этого ряда, предмет стремления, который сам уже ни к чему не стремится. Так рождается центральная интуиция трактата: абсолютное Благо (τὸ πρῶτον ἀγαθόν) тождественно абсолютному покою. Оно не есть деятельность, не есть мышление, не есть даже бытие в его определённости, но – запредельный источник всего этого. Его атрибуты – совершенная самодостаточность, неизменность и простота. Оно есть Единое, которое, пребывая «в тишине», является точкой опоры и центром притяжения для всего мироздания. Платоновский образ солнца получает здесь метафизическую отточенность: как свет неотрывен от солнца и всегда к нему обращён, так и всякое сущее, даже в самой низшей степени, укоренено в Едином и инстинктивно к нему направлено.
Эта направленность и составляет суть причастности благу для всего тварного мира. Благо не распространяется и не делится; оно сообщает себя через иерархию уподобления. Неодушевлённые вещи причастны ему лишь опосредованно, через причастность душе, дающей им форму и порядок. Душа причастна через устремлённость к уму (νοῦς). Сам ум, будучи ближайшей эманацией, уже непосредственно «следует» за Благом. Таким образом, всё обладает не благом как таковым, но его подобием (ἀγαθοειδές), меру которого определяет положение в онтологической цепи: от простого факта существования (как образа единства) – через одушевлённую жизнь – к разумной деятельности. Благость относительна и пропорциональна способности субъекта обращать свою внутреннюю активность к высшему источнику.
Именно здесь возникает самый острый и психологически пронзительный момент рассуждения – анализ жизни и смерти. Если всё стремится к Благу, а жизнь есть принцип стремления, то является ли жизнь безусловным благом? Плотин даёт жёсткий и парадоксальный ответ: нет. Жизнь в её эмпирической, смешанной с материей форме, может быть ущербной, «хромой», подобно больному глазу. Её ценность обусловлена не биологическим фактом, а качеством внутренней деятельности. Порочная жизнь, лишённая ориентации на ум и добродетель, есть зло для души. В этом свете смерть, понимаемая как разделение души и тела, теряет абсолютно негативный статус. Для неочищенной души смерть – лишь продолжение её зла; для души, уже начавшей в земной жизни процесс отрешения (χωρίζειν ἑαυτήν) через добродетель, смерть становится большим благом, полным освобождением для чистой умственной деятельности. Таким образом, этика Плотина оказывается прямой проекцией его метафизики: нравственное усилие – это не просто следование правилам, а онтологический акт поворота души к своему истинному истоку, постепенное умирание для низшей, смешанной жизни и рождение для высшей.
Современное звучание этой конструкции поразительно. В мире, одержимом культом безостановочной деятельности, продуктивности и внешних достижений, плотиновская апология «покоящегося» Абсолюта предлагает радикальный корректирующий принцип. Она напоминает, что смысл любой активности обретается только по отношению к некоему внутренне неподвижному, не утилизируемому центру – будь то этический идеал, экзистенциальная подлинность или творческое созерцание. Идея градуированной причастности благу бросает вызов как релятивизму, стирающему качественные различия в ценностях, так и догматизму, предписывающему для всех единый путь. Она утверждает иерархию, но иерархию, основанную не на внешнем статусе, а на внутренней направленности сознания. Наконец, переосмысление жизни и смерти как функциональных, а не абсолютных категорий созвучно поискам современной философии и психологии, стремящимся понять «хорошую жизнь» не как продолжительность существования, а как определённое качество осознанности и связи с чем-то, превосходящим индивидуальное «я». Плотин, таким образом, предлагает не готовые ответы, но мощный каркас для мышления, в котором ценность, бытие и сознание сплетены в единую динамическую ткань, натянутую между абсолютным покоем Единого и вечным стремлением к нему всего сущего.
1. О Первом Благе и прочих благах.
Плотин начинает с вопроса о природе блага для каждой вещи. По его мысли, благом для любого существа является осуществление его природной деятельности в соответствии с его сущностной природой, без какого-либо недостатка. Для души, следовательно, благом будет её собственная естественная деятельность. Однако Плотин немедленно вводит принцип иерархии: если эта деятельность направлена к наилучшему, то она становится благом не только для самой души, но и благом в абсолютном смысле. Это подводит к центральному различению между относительными и абсолютным благом. Все вещи стремятся к чему-то иному, и их благо состоит в этом устремлении и осуществлении. Но должно существовать нечто, что само является наилучшим, превосходит всякое бытие и потому не может быть направлено к чему-то другому. Напротив, всё остальное направлено к Нему. Это и есть Первое Благо, или Единое. Именно оно, пребывая в покое, есть источник, благодаря которому все прочие вещи могут приобщаться к благу. Их благость оказывается двойственной: с одной стороны, это уподобление Первому через ориентацию на Него, с другой – осуществление собственной деятельности, направленной к Нему.
Отсюда вытекает радикальный вывод о природе самого Абсолютного Блага. Если всякое стремление и деятельность хороши благодаря направленности к Наилучшему, то само это Наилучшее не может ни к чему стремиться, ни на что иное взирать. Оно пребывает в совершенном покое, будучи истоком и началом всякой естественной деятельности. Его способность делать другие вещи благообразными не есть какая-либо Его активность по отношению к ним, ибо они обращены к Нему, а не Он к ним. Следовательно, Благо не есть деятельность или мышление. Оно есть сама простота и покой. Поскольку оно запредельно сущности (ousia), оно также запредельно энергии (energeia) и уму (nous) с его мышлением (noesis). Ключевой признак Первого Блага – его абсолютная самодостаточность и бытие как конечная точка опоры для всего: «всё к Нему возводится, а Оно – ни к чему». Таким образом, общеизвестное определение блага как «того, к чему всё стремится» обретает истинный смысл лишь тогда, когда предмет стремления сам ни в чём не нуждается. Логика требует, чтобы Первое оставалось неподвижным центром, к которому всё обращается, подобно тому как все линии в круге сходятся и зависят от центра. Для наглядности Плотин использует два образа: солнце и свет, и растение и его корень. Как свет, где бы он ни был, не отделён от солнца и всегда обращён к нему как к источнику, так и всё сущее не может быть отсечено от своего истока, Первого Блага. Как растение, питаясь через корень, обращает свою жизнь к нему, так и вся сложность бытия питается и держится простотой Единого, которое, оставаясь в себе, сообщает существование, форму и ценность всему иному. Таким образом, внутренняя логика трактата ведёт от анализа относительного блага как осуществлённости природы – к необходимости абсолютного, самодостаточного принципа, который, будучи сверхдеятельным и сверхумным покоем, является условием возможности всякого стремления, всякой деятельности и, следовательно, всякого блага в мире.
2. О способе причастности иерархии сущего к Первому Благу.
Исследуя механизм связи всего сущего с Первым Благом, Плотин выстраивает строгую иерархическую цепь направленности. Неодушевлённые вещи обращены к душе, поскольку именно душа одаряет их порядком и жизненным началом. Душа же, в свою очередь, обращена к Первому не непосредственно, но посредством ума (νοῦς), который является для неё ближайшей и высшей инстанцией. Таким образом, всё сущее включено в нисходящий порядок эманации от Единого: Ум, Душа, телесный космос. Каждая вещь в этом порядке обладает некоторой мерой блага уже в силу самого факта своего существования, поскольку иметь бытие – значит быть причастным единству и, следовательно, в определённом смысле – благу. Всякое участие в форме (εἶδος) также есть косвенное участие в благе, однако здесь Плотин вводит важное уточнение: форма сама по себе есть лишь образ (εἴδωλον) истинно сущего и подлинного единства, то есть умопостигаемого принципа. Поэтому причастность форме даёт лишь «образ» блага, а не само благо.
Далее Плотин дифференцирует уровни причастности в зависимости от природы субъекта. Для души, особенно для высшей, мыслящей души, следующей непосредственно за умом, жизнь (ζωή) является её благом. Эта жизнь, поскольку она пронизана умом, ближе к истине и потому обладает благообразием (ἀγαθοειδές). Однако душа обретает само благо не автоматически, а лишь при условии своего обращения и взора (βλέποι) к тому, что выше её, – к уму и через него к Первому. Ум же, будучи ближайшей эманацией Единого, уже непосредственно следует за Благом и содержит его в себе как свой принцип. Следовательно, для любого существа его благо определяется его местом в иерархии: для того, чья сущность есть жизнь, благом будет сама жизнь; для того, кто причастен уму, благом будет ум. Наивысшее же состояние – жизнь, соединённая с умом, – обладает двойной связью с Первым Благом: и через свою жизненность (как эманацию), и через свою разумность (как обращённость к источнику). Таким образом, причастность благу оказывается не равной для всех, а градуированной: от простого обладания бытием как образом единства – через одушевлённость и разумность – до возможного прямого, хотя и опосредованного умом, устремления к самому Источнику.
3. О двойственности жизни и смерти как относительных благ и зол
Рассматривая тезис о жизни как благе, Плотин сталкивается с очевидным противоречием: если жизнь есть благо, то должно ли оно принадлежать всякому живому существу? Философ отвечает отрицательно, вводя критерий осуществлённости природной функции. Жизнь для порочного существа подобна больному глазу, который не может ясно видеть и потому не выполняет своего предназначения; такая жизнь «хромает» и ущербна. Таким образом, жизнь сама по себе ещё не гарантирует обладания благом – оно реализуется лишь в полноте и совершенстве природной деятельности.
Это приводит к сложному вопросу о смерти. Если наша смешанная со злом жизнь есть благо, то почему смерть считается злом? Плотин подвергает сомнению саму предпосылку, утверждая, что зло должно быть присуще какому-то субъекту. Мёртвое тело, утратившее жизнь, уже не есть субъект, а камень и вовсе лишён жизни, поэтому им нельзя приписать зло в собственном смысле. Если же после смерти сохраняется жизнь души, то это, напротив, становится для неё благом, поскольку душа получает возможность действовать свободно, без помех со стороны тела. Если душа воссоединяется с мировой душой, то для неё там вообще не существует зла. По аналогии с богами, для которых есть только благо и нет зла, так же обстоит дело и для чистой души, сохранившей свою сущность. Напротив, если душа не сохранила чистоты, то злом для неё будет не смерть, а именно порочная жизнь. Даже в Аиде, если душа подвергается наказаниям, зло проистекает не из жизни как таковой, а из её нечистоты, из того, что это «не жизнь сама по себе».
Плотин далее анализирует определения: если жизнь есть соединение души и тела, а смерть – их разъединение, то душа оказывается способной к обоим состояниям. Разрешение парадокса лежит в различении уровней. Жизнь в теле является благом не потому, что она есть соединение, а лишь постольку, поскольку через добродетель (ἀρετή) в этом соединении можно противостоять злу. В этом контексте смерть может оказаться большим благом, так как освобождает от тягот смешанного существования. Окончательный вывод формулируется радикально: сама по себе жизнь в теле содержит в себе начало зла, ибо подвержена страстям и заблуждениям. Однако благодаря добродетели душа способна, даже пребывая в теле, пребывать в благе. Это происходит не потому, что она живёт жизнью составного существа, а потому, что она уже здесь и теперь начинает отделять себя от тела, обращаясь к умопостигаемому. Таким образом, подлинное благо для души заключается не в физиологическом факте жизни, а в её интеллектуальной и нравственной активности, ведущей к обособлению от телесного и уподоблению божественному.
Восьмой трактат.
Πόθεν τὰ κακά.
О метафизических корнях зла: необходимость, природа и преодоление.
В восьмом трактате шестой Эннеады «О происхождении зол» Плотин предпринимает систематическое исследование одной из самых мучительных проблем философии: если мироздание происходит от абсолютно благого начала, каким образом в нём присутствует зло? Ответ требует не моральной проповеди, но строгого онтологического анализа, ведущего к парадоксальному выводу: зло существует как необходимое следствие самого совершенства блага, но существует не как сущность, а как её предельное отрицание.
Исходный методологический принцип гласит: познание зла возможно только через предварительное понимание блага. Благо есть абсолютное начало, самодостаточное, ни в чём не нуждающееся, служащее мерой и пределом всему. От него эманируют Ум, наполненный всеми интеллигибельными формами, и Душа, обращённая к нему. В этом умопостигаемом космосе царит чистая полнота, гармония и блаженство; зло здесь отсутствует абсолютно. Следовательно, его источник следует искать не в самом принципе блага, а на периферии бытия.
Так начинается движение мысли к онтологическим окраинам. Зло не может быть формой или эйдосом, ибо формы суть благи. Оно должно принадлежать сфере не-сущего. Однако «не-сущее» у Плотина – не абсолютное ничто, а нечто иное по отношению к истинному бытию, его слабый и искажённый образ. Этим образом является чувственный мир, мир становления. Но и здесь зло – не просто телесность. Тела злы вторично, поскольку они причастны материи. Сама же материя (ὕλη) и оказывается подлинным кандидатом на роль первичного зла.
Плотин проводит тонкое различение: материя не есть зло потому, что обладает каким-то дурным качеством. Напротив, её зло состоит в полном отсутствии качеств, в абсолютной лишённости (στέρησις). Она есть чистая потенциальность, бесформенность (ἀνείδεον), беспредельность (ἄπειρον), вечная нужда. Она – не активное начало разрушения, а пассивная, всепоглощающая бедность (πενία παντελής), «тьма», которая сама по себе не видима, но познаётся лишь как отсутствие света. Её «бытие» – лишь омоним бытия истинного; точнее её называть не-сущим. Таким образом, первичное зло (πρῶτον κακὸν) – это сама материя как абсолютная лишённость формы, предела и, следовательно, блага.