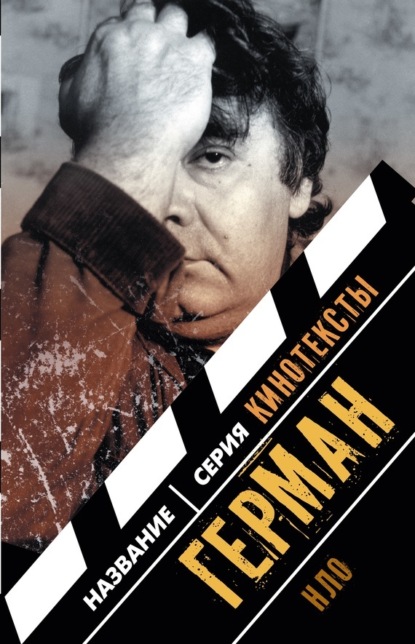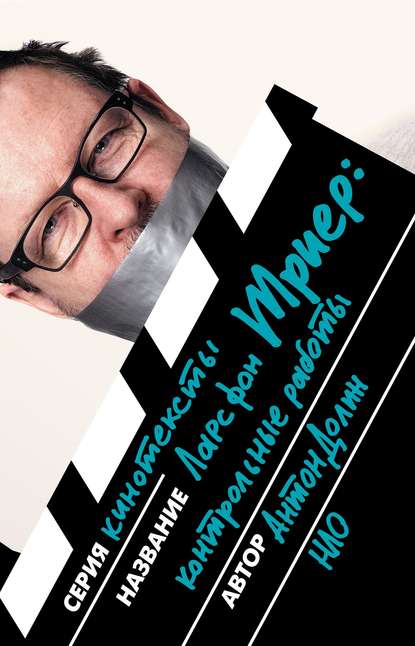Полная версия
Опыт киноглаза. Исследование кинематографической автономии
Несмотря на это разнообразие, обнаруженное в кинематографе уже в первые годы его существования, проблему институционального и дискурсивного доминирования одной стратегии над другой невозможно игнорировать. Пусть не сразу, но с 1930‑х годов (отчасти это связано с удобством его применения в звуковом кино) американский метод кадрирования, монтажа и создания нарративной связности действительно выступил основой для формирования теперь уже интернационального, общего стиля, который вошел в историю как «классический» – наиболее базовый и универсальный44. Впрочем, забывая о том, сколько времени – а еще институциональной и технической прагматики – потребовалось для осуществления этого перехода, авторы различных историй кино пишут о голливудской победе как неизбежной, попутно приписывая и самой кинематографической природе тяготение к нарративности. Это можно заметить в том, как режиссеры, следующие этим конвенциям, никогда не проговаривают свою принадлежность к какой-то особой традиции (никто не назовет себя «последователем Гриффита»), потому что она давно превратилась в норму, которую не нужно специально маркировать. Например, в дискуссиях о французской новой волне Франсуа Трюффо, стараясь разграничить свой режиссерский путь и методы Жана-Люка Годара, писал: «Я хочу снимать нормальные фильмы – в этом моя жизнь»45. Годар же, напротив, осознавал свой режиссерский стиль как особенный – и потому конкретизировал его истоки через обращение к работам Эйзенштейна и Вертова.
Идея кинематографической нормативности касалась не только устройства фильмов, но и тематизации зрительской позиции – она так же, как и кино, с развитием унификации определялась в теории как нечто все более и более гомогенное. На раннем этапе о месте зрителя говорили немного: фильмы смотрел либо неопределенный, некий человек, либо масса как социальная сила, в отношении кино остающаяся довольно аморфной. Мариам Хансен замечает, что в США 1910‑х годов, как раз в момент закрепления нарративно-нормативных представлений о фильмах, моментально возникла и тенденция к унификации зрительского опыта:
В период никельодеонов… к зрителю все еще обращались во множественном числе как к «аудитории» или как к представителю той или иной социальной группы… Около 1910 года рядом с этими ярлыками возник более абстрактный термин «зритель», особенно в публикациях на эстетические темы… По большому счету термин «зритель» подразумевал сдвиг от коллективного, множественного понятия посетителя кино к категории единичного; унифицированной, но потенциально универсальной категории, товарной единице рецепции. На уровне стиля фильма этот сдвиг выразился в фокусе на нарративе с помощью манипуляций всевидящей камеры, которая вовлекала зрителя как временно бестелесное существо. <…> Это представление о зрителе позволило заранее вычислять и стандартизировать различные варианты рецепции и гарантировать потребление вне зависимости от классовых, этнических и культурных границ46.
Можно сказать, что в середине ХX века позиция реципиента начала стремительно укрепляться вообще в философии, а не только в теории кино, потеснив авторитет автора как инстанции, создающей произведение искусства. Из пустой абстракции зритель/читатель превратился в того, кто играет существенную роль в процессе коммуникации, удостоверяет существование произведения искусства своим присутствием. В первую очередь такая активность стала приписываться читателю, чей вклад в поддержание жизни текста, начиная с работ Ролана Барта и Умберто Эко, стал определяющим. Автор «умирает», а освободившееся место предсказуемо занимает реципиент.
На примере исследований кино особенно заметно, как в теории, сложившейся в то же время, объектное мышление сменилось ситуативным: вместо фильма (авторского произведения) как ключевого предмета рефлексий теоретики начали анализировать ситуации просмотра, в которых фильм существовал только благодаря присутствию зрителя, в отрыве от него немыслимый. Симптоматично, что именно тогда столь важным для теории аспектом становится зрительный зал с его ключевыми атрибутами – коллективностью, анонимностью, темнотой. Кино как объект теории с середины ХX века редуцируется до его финального состояния – экранной проекции. Еще сильнее подчиняя его человеческой агентности – теперь уже не столько авторской, сколько зрительской, – теория попутно закрепляет и представление о кино как о фильме: ведь, в первую очередь, именно с ним зритель встречается в кинозале.
Так каким же законам подчиняется коммуникация между фильмом и зрителем, согласно теории кино второй половины ХX века?
Кино как умопостигаемый объект
В 1960‑е годы начинают активно создаваться специализированные академические издания, посвященные исследованиям кино, в университетах открываются программы, направленные на его изучение. Научная институционализация потребовала обновления теории: нужно было найти для нее крепкое методологическое основание. В ходе этих поисков академические исследования кино заручились поддержкой философии. Сперва – французской, затем – англо-американской. Этот союз, однако, оказался для теории кино довольно болезненным, вместо продуктивного симбиоза обернувшись паразитизмом.
Впоследствии первый этап отношений между философией и теорией кино, сложившийся в 1960–1980‑е годы, был назван историками эпохой Большой теории, определившей базовый язык описания кино и зрительских практик на долгие десятилетия47. Сам термин «Большие теории» родился уже позднее, одновременно с появлением противоположной тенденции – американским движением посттеории, возникшим в научном сообществе в середине 1990‑х годов. Тогда историк кино Дэвид Бордуэлл и философ искусства Ноэль Кэрролл позаимствовали48 свое ключевое критическое понятие у Чарльза Райта Миллса – американского социолога, последовательно выступавшего против объяснения единичных социальных явлений с помощью разработанных заранее концепций. Согласно Миллсу, такого рода подход превращается в «бесплодный формализм, где основное внимание уделяется умножению понятий и бесконечному манипулированию ими»49.
В контексте исследований кино Большая теория именовалась «большой», поскольку по траектории мысли представляла собой полную противоположность классической: если ранние теоретики (Хьюго Мюнстерберг, Бела Балаш, Андре Базен) изобретали свои главные понятия, отталкиваясь от фильмического материала (индуктивно), то для новых теоретиков любое высказывание о частной кинематографической проблеме опиралось на более общие философские подходы (было дедуктивным). Базовые понятия господствующих в то время методологий – неомарксизма, психоанализа, семиотики – часто калькировались на новые области, чтобы ставить одни и те же вопросы и отвечать на них, применяя одни и те же инструменты. Разрабатывался универсальный язык для описания отношений между кино и зрителем, применимый к одной и той же ситуации просмотра и зачастую безразличный к любым индивидуациям. Большая теория пропускала зрителя сквозь строй повторяющихся процессов – первичной и вторичной идентификации, интерпелляции, работы бессознательного – и приписывала ему относительную пассивность, роль обездвиженного вуайера, жертвы идеологических эффектов. Кино же рассматривалось как идеологический аппарат, эти эффекты производящий. Базовыми для этого наиболее популярного направления теории кино стали небольшие статьи Жана-Луи Бодри50, Лоры Малви51, Жана-Луи Комолли и Жана Нарбони52. В теории кино они стали настоящими основателями дискурсивности, породив невероятное количество цитирований и работ, написанных по аналогии.
Общую схему, в которой представители Большой теории предлагали мыслить отношения между зрителем и фильмом, можно счесть несколько параноидальной – основанной на постоянной подозрительности к кино как к аппарату власти, идеологическому аппарату (термин был позаимствован Бодри у философа-неомарксиста Луи Альтюссера), вынуждающему подчас ничего не подозревающего зрителя через скрытые от него механизмы идентификации усваивать определенную – полезную для господствующей (капиталистической) системы – субъектность. Подобная критика относилась к большей части кино, но особенно – к кино голливудскому, построенному на бесшовном нарративе, успешно скрывающем все свои манипулятивные механизмы. В текстах некоторых авторов (например, у Лоры Малви) возникал закономерный в такой ситуации призыв обратиться к другому, ненормативному кино, работающему иначе. Но парадоксальным образом именно Большая теория упрочила положение своего главного врага: руководимая только критикой, она не спешила формулировать язык описания альтернативного кино и альтернативного зрительского опыта, разработав вместо этого терминологический аппарат, пригодный, главным образом, для интерпретации кино нарративного. Здесь список наиболее авторитетных авторов должен быть дополнен французским психоаналитиком-семиотиком Кристианом Метцом, который не только утвердил базовое для этого подхода место зрителя в акте просмотра (именно ему принадлежит наиболее полная разработка теории идентификации, которая поясняет, как зритель взаимодействует с фильмическим диегетическим миром53), но и выборочно применил аппарат семиотики к фильму, который с этого момента стал пониматься как текст, система знаков, создаваемая и читаемая по правилам различных кинематографических кодов. В те же годы вклад в это направление внесли Ролан Барт, Умберто Эко, Жан Митри и другие54.
В этой системе порядок отношений между фильмом и смотрящим определялся зрительской интерпретативной включенностью, нацеленной, главным образом, на распознавание знаков, их чтение, понимание и связывание. Чтобы засвидетельствовать, как зритель, рожденный такой парадигмой, взаимодействует с кино, можно прочитать, например, эссе Ролана Барта «Третий смысл». Один эпизод из фильма Эйзенштейна «Иван Грозный» он расслаивает на несколько уровней смысла: информативный (фиксация сведений, понятных из простого процесса распознавания фигур, предметов и обстановки в кадре), символический (растолковывающий значения и коннотации различенных элементов) и третий, открытый смысл (он, впрочем, несколько противостоит у Барта предложенной системе, действуя, как «рассекающий смысл шрам»55, к этому я еще вернусь). Даже имея дело с фильмом, не работающим на систему идеологического угнетения, зритель внутри этой парадигмы все равно должен быть мобилизован именно интеллектуально, чтобы осваивать кино через акт понимания как сложную систему знаков и значений, которые нужно верно прочитать.
В этой связи необходимо ясно понимать, что кино, будучи искусством, также и язык, система знаков, использующих широту метафоры, чтобы означать. Как и литература, которая связана со словами, кино является языком или языками и тем самым формой выражения56.
Посттеория – движение, возникшее в США в середине 1990‑х годов, хорошо сознавало недостатки продолжительного союза между теорией кино и заимствованной извне философией. Она критиковала и унифицированную позицию зрителя, и параноидальную подозрительность представителей Большой теории по отношению к кино, обещая вернуться к нему на новых основаниях, раскутав его из сковывающих дискурсов. Главный манифест звучал почти по-гуссерлиански: «Назад к фильмам!» Однако на деле группа исследователей, пришедших из истории кино (Дэвид Бордуэлл, Эдвард Браниган, Кристин Томпсон) и философии искусства (Ноэль Кэрролл, Берис Гот), с самого начала лукавила. Посттеория не отказалась от философии и даже не совершила существенного пересмотра ряда ее ключевых положений, а лишь произвела рокировку, разработав позитивную программу с опорой на аналитическую, англо-американскую, а не на континентальную традицию.
Хотя посттеория сначала отстаивала плюрализм, не обязующий теоретиков отныне опираться на один и тот же набор философских оснований, через некоторое время стало очевидным предпочтение, которое исследователи отдавали новым методологиям, активно развивающимся во второй половине ХX века: когнитивной психологии и нарратологии. Истоки когнитивистики – сопоставлений работы мозга и просмотра фильма – посттеоретики находили еще в классической кинотеории у Рудольфа Арнхейма и Хьюго Мюнстерберга57. Эта методология призывалась посттеоретиками в качестве научной альтернативы психоанализу и феноменологии (последняя также к этому моменту начала входить в расширяющееся поле кинотеории, о чем еще будет сказано). Хотя кинокогнитивисты, в отличие от киносемиотиков, критиковали прямое сопоставление между устройством фильма и устройством языка, фактически представление о зрительском поведении при просмотре изменилось мало: вооружившись когнитивными способностями (вниманием, распознаванием, запоминанием, умозаключением), зритель продолжал восприниматься как дешифровщик фильма, в который зашита информация, нуждающаяся в прочтении и интерпретации.
Представление о кино тоже не особенно изменилось: в посттеории фильм из текста превратился в нарратив, где каждый элемент кадра является поставщиком информации о показанных (рассказанных) событиях. Понятно, что такое представление наиболее применимо к кино, основанному на действии. Посттеоретики предложили назвать его словом movie – принципиально зрительской продукцией. Итогом такого исследовательского предпочтения стало повсеместное подчеркивание нормативности нарративного кинематографа, несопоставимое по настойчивости с тезисами Большой теории. Посттеоретиков искренне привлекали фильмы, лишенные эксцессов, складывающиеся в единый организм, где каждая деталь, как бы ни сложны были отношения между ними, в конечном счете обретает свое место. Эту норму, трактующую стиль в качестве спутника нарратива, сам нарратив – как основу основ с жесткой структурой (начало – середина – конец), мир фильма – как набор героев и событий, увязанных друг с другом рассказывающей инстанцией, которая всему и всегда найдет объяснение, – посттеоретики старательно взращивали, вытеснив на периферию все, что ей не соответствовало. Со временем эта новая нарратологическая эксплуатация только усугубилась. Предложенному методу быстро стало тесно в классическом и современном голливудском кино, и в область нарративного анализа вошли фильмы Алена Рене, Жана-Люка Годара, американское экспериментальное кино. Приемы, которые, казалось, по своему устройству противятся редукции к простым нарративным функциям, также стали пониматься как элемент наррации58.
Методологический каркас, выстроенный на основе принципов англо-американской философии, оказался не менее жестким, чем Большие Теории, а выбор между ними – скорее, вопросом интеллектуального вкуса. В конце концов, обе эти тенденции в отношении кино исходят из одного и того же: кино – это текст, сконструированный кем-то (или чем-то) и воспринятый зрителем в первую очередь интеллектуально, на информативном уровне. И Большие Теории, и посттеория на вопрос о сущности кино ответили бы, что кино – это послание разной степени связности. Не столь важно, есть ли у него конкретный автор – кто-то всегда составляет сообщение, которое считывает зритель. Поэтому во всех кинотеоретических текстах такого рода столь устойчивым остается понятие киноязыка, в котором запрятан этот эссенциалистский подход.
Сложно не отметить, что режиссерские практики и зрительские предпочтения отчасти повинны в том, что именно подходы, мыслящие кино как язык, текст, дискурс, нарратив, сообщение, оказались столь популярными. Индустрия, чувствуя в этом больший зрительский потенциал, а следовательно, и коммерческий успех, последовательно превращала в норму именно повествовательный фильм, а нарративность представляла как сущностное для кино свойство, оставляющее ненарративные эксперименты в статусе маргиналий. Недаром к авангардному кино перечисленные здесь теории всегда относились как к эксцессу: либо обходили стороной, либо именно в нем высматривали протестный потенциал59.
Вполне справедливо поэтому искать доказательства иной, некоммуникативной, неинформативной и внеязыковой природы кино через обращение к экспериментальным практикам – менее антропоморфным, выражаясь языком Малви. Затруднительно рассуждать о необходимости распознавания объектов в диегетическом мире там, где нет ни устойчивых объектов, ни, в сущности, никакого закрытого мира – в абстрактных фильмах Викинга Эггелинга, Вальтера Руттмана, Нормана Макларена, в структурном кино Эрни Гира, Майкла Сноу. Но и в менее радикальных работах есть приемы, сопротивляющиеся соотнесению с миром значений, со складностью нарративного течения. Так, знаменитые годаровские jump-cuts выводят на поверхность разорванность, дискретность кино, делают заметными швы, на которые обыкновенно накладывается нарративная ретушь. Но, возвращаясь к эссе Бинотто, напомню о мысли, к которой еще неоднократно вернусь: кино, чье лицо заметно сквозь нарративную связность, может встретиться нам везде, не только в специально организованных для того экспериментах.
Киносубъектность: попытка первая. Фильморазум Дэниэла Фрэмптона
Несмотря на то что большинство языковых подходов к исследованиям кино ставят его существование в прямую зависимость от режиссера как отправителя послания и зрителя как его получателя, именно в этом поле возникла одна из немногих попыток помыслить субъектность фильма и попробовать отыскать основания, на которых могла бы быть выстроена его автономия от человеческих инстанций. Речь идет о книге британского теоретика Дэниэла Фрэмптона «Фильмософия», изданной в 2006 году.
Текст Фрэмптона начинается с провокативного тезиса: фильм обладает собственным разумом (film-mind), который не сводится к выражению намерений своего создателя и не зависит полностью от процесса зрительского восприятия; фильм существует, мысля. Резонансность этого заявления заключается не только в намерении вменить фильму то, что обыкновенно теоретики относили исключительно к числу человеческих способностей (мышление), но и в том, что Фрэмптон обещает указать на своеобразие фильмического разума, не уподобляя его человеческому:
Важно подчеркнуть: фильмософия не проводит прямую аналогию между человеческим мышлением и фильмом, потому что фильм отличается от наших способов думать и воспринимать60.
В первой части исследования Фрэмптон старательно расчищает территорию, просеивая собственные идеи через схожие по интенции теоретические проекты, которые отвергает по причине их метафоричности или метонимичности. В списке авторов, к которым он обращается, ключевую роль играет Хьюго Мюнстерберг. В его работе «Фотопьеса» впервые акцентировалась параллель между человеческим мышлением и монтажным устройством фильма: крупные планы как подобия актов пристального внимания, флешбэки как воспоминания, параллельный монтаж как ментальная способность связывать в опыте сознания несколько разных мест. Иначе говоря, преодолевая те правила физики, которым подчинено наше тело, кино «скорее подчиняется законам сознания, чем законам внешнего мира»61. Новаторский для своего времени подход Мюнстерберга, однако, не удовлетворяет радикализм «Фильмософии»: фильм не должен походить на наше мышление, копируя его проявления, он должен мыслить по-своему. К столь же любопытным, но недостаточно радикальным подходам Фрэмптон относит и другие теории, отмечающие сходство устройства фильма с ментальными состояниями, когнитивными операциями, грезами и сновидениями (С. Лангер, Б. Кэвин, Ж. Гудаль). Другой набор теорий, также настаивающих на возможности фильма копировать структуру мыслительных процессов, по мнению Фрэмптона, страдает другим пороком: авторы (В. Ротман, Д. Хервиц, Дж. Уилсон) ограничиваются выстраиванием метонимической конструкции, где фильм лишь замещает того, кто его снимает, – воспроизводит ментальные операции режиссера (нарратора, одного из героев). Другими словами, думает не сам фильм, а антропоморфный отправитель послания, использующий его как инструмент коммуникации.
Отказываясь и от метафор (фильм мыслит как человек), и от метонимий (автор мыслит через фильм), Фрэмптон утверждает, что каждый объектный элемент мира, который создается в фильме (локации и персонажи), и каждая преобразующая их процедура (монтажная склейка, цветокоррекция, кадрирование) является интенциональным актом самого фильморазума – фильмодуманием (filmthinking) или фильмомыслью (filmthought). К фильмомыслям относятся и элементы нарратива (персонажи, их отношения, ситуации, локации), и формальные операции (от расфокуса до монтажа), и характерное для цифрового кино творение объектов из ничего. За каждым из названных элементов Фрэмптон видит активную мыслительную процедуру: поиск объектов, их противопоставление, сравнение и т. д.
Фильморазум, таким образом, представляет собой механизм, а фильмодумание выполняет пропозиционные функции: использует объекты фильма, чтобы рассуждать о драматическом действии. Это чисто фильмическое рассуждение оказывается возможным благодаря выбору: фильморазум решает показать это, а не то, предъявить нам эти образы, а не другие, показать персонажа с той стороны, а не с другой [курсив мой. – Д. П.]62.
Подход Фрэмптона призван оказать влияние на практики письма и разговора о кино – и нацелен на зрителей, критиков и философов. Например, одним из следствий анализа фильма как фильморазума становится снятие различия между формой и содержанием. Здесь Фрэмптон противопоставляет свой метод нарратологическому подходу. Цитируя тексты Дэвида Бордуэлла, он заостряет внимание на том, как сюжет и стиль существуют в этом неоформалистском подходе отдельно друг от друга. Фрэмптон справедливо отмечает, что для большинства нарратологов основным в фильме является нарратив – сюжетная конструкция, которую зритель уясняет по ходу просмотра. Но детализация стиля (того, как снято то или иное событие) в нарратологическом анализе напоминает освобождение фрукта от кожуры: сперва формальный прием замечается, а затем оттесняется, чтобы сделать акцент на раскрываемом им сюжетном мотиве.
Для него [Бордуэлла] зрители не ощущают смысл стиля как такового, а распознают, складывают и вычитают различные его приемы. После того как стиль оказывается полностью воспринятым, зритель выстраивает гипотезу о том, как он соотносится с сюжетом63.
С критическим отношением к нарратологической оптике хочется немедленно согласиться, но важно и то, какую альтернативу Фрэмптон предлагает подобным разборам. Зритель фильмософский воспринимает фильм не как набор придуманных режиссером приемов для трансляции некоторой ситуации, а как результат специфической мыслительной деятельности фильморазума. Дискурсивное различие Фрэмптон демонстрирует на примере описания короткой сцены из «Славных парней» (1990) Мартина Скорсезе64:
Описание, данное в рамках обычных исследований кино… указало бы на то, что режиссер предложил формальную метафору, чтобы указать на изменение в отношениях персонажей. <…> Фильмософское описание этой сцены звучало бы как-то так: фильморазум понял изменение в отношениях двух персонажей и помыслил резкое изменение в их мире65.
В таком описании для Фрэмптона важно то, что конкретные приемы не именуются и не называются, они ощущаются и воспринимаются как выражения фильмического мышления: зумируя, фильморазум мыслит сдвиг в отношениях двух персонажей. Получается, что зумирование как прием и содержание сцены являются неотторжимыми друг от друга сторонами одной фильмической мысли, которой письмо о фильме дает языковой эквивалент, а не анализирует, раскладывая на составляющие.
На самом деле, каким бы революционным ни считал Фрэмптон свой подход к кино, даже в приведенном выше примере фильмософской интерпретации сцены очевидна незначительность того различия, которое новый подход призван произвести. В самом деле, что, по существу, меняется оттого, что вместо режиссера, замыслившего при помощи визуальных средств показать перемену в человеческих отношениях, этот замысел вменяется фильму как разумному существу? Изменение едва затрагивает язык: фильморазум понял, фильморазум помыслил. Но нигде не расшифровывается то неочевидное допущение, что фильморазум как связанный и преображенный мир фильма действительно самостоятельно совершает определенную мыслительную операцию. Ответ на самый важный вопрос, с которого следовало бы начать, как раз отсутствует: исходя из каких предпосылок мы можем заключить, что фильм действительно мыслит?
У читателя «Фильмософии», уже озабоченного проблемой теоретического антропоморфизма, возникает справедливое сомнение: не является ли наделение фильма способностью мыслить попыткой сделать его поведение более похожим на человеческое вопреки заверениям в принципиальной инаковости? Если, как утверждает Фрэмптон, речь идет не о подобии, а о способности к мысли, отличной в своих проявлениях от человеческого рассудка, как схватить эту разницу, как указать, в чем она проявляется? Призыв Фрэмптона приписать фильму обладание разумом требует большого количества предварительных экспликаций, выходящих далеко за пределы кинотеории. Приписывая перечисленные мыслительные операции не режиссеру, а самому фильму, Фрэмптон, к удивлению читателя, не пытается привести ни одного аргумента в пользу допустимости такого переноса. Способность мыслить, да еще так развито, как это пытается продемонстрировать Фрэмптон, никак не следует из того, что мы знаем об устройстве кино. Операции, делающие процесс мышления видимым (зумирование, кадрирование, трэвеллинг), демонстрируют исключительно технические возможности киноаппарата, и лишь при сильном интерпретативном усилии результат их работы может быть назван мышлением. Зумирование действительно походит на направленный акт внимания, но где доказательства, что ответственность за выбор объекта внимания и интенцию этого акта и впрямь лежит на автономном фильме, а не на режиссере, управляющем киноаппаратом во имя собственных нужд?