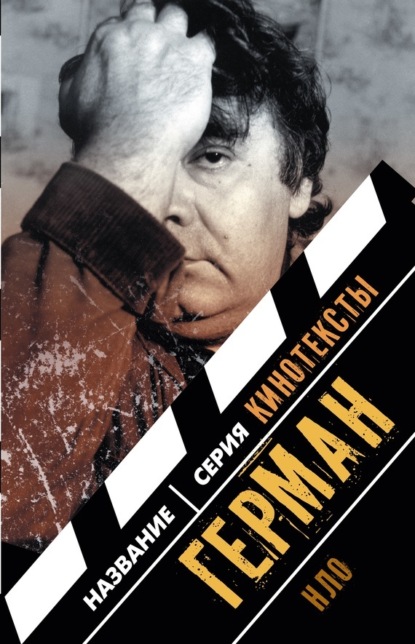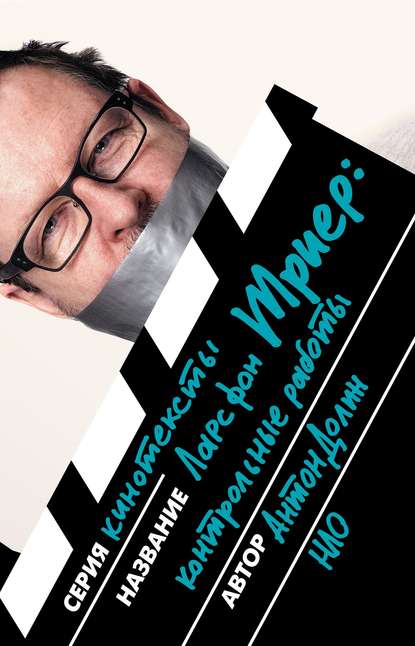Полная версия
Опыт киноглаза. Исследование кинематографической автономии
Принадлежность кино к области искусств обязывает фундаментализировать не только его отношения с автором, но и со зрителем. Об этом у Беньямина тоже есть несколько интересных замечаний. Если традиционное искусство, обладавшее культовым статусом, держалось за свою уникальную сделанность, но могло позволить себе не быть увиденным28, то после появления фотографии и кино акцент переносится на его экспозиционную ценность: роль художника, его связь с произведением, ослабевает, но зато расширяется роль зрителя. Это смещение важно для Беньямина, поскольку он все еще намеревается оставить кино в рамках искусства, которому для существования необходима человеческая интенция. Действительно, на разных этапах философии искусства она вменялась либо художнику (во всех вариантах философии искусства как философии творчества), либо зрителю (у Беньямина, а также во всех вариантах рецептивной эстетики и усложненных концепциях «опыта»). Но, в любом случае, искусства без человека не существует – так что подход, призванный рассматривать кино автономно, должен совершать стремительный побег от искусства, стирающего специфику самого кино в пользу действия человеческих агентов.
Вопрос даже не в том, что существует такое кино, которое не нуждается в человеческом вмешательстве (например, алгоритмические фильмы, созданные компьютером), или такое, где это вмешательство намеренно ослаблено (любые варианты алеаторных съемок, вроде «Левиафана» (2012) Люсьена Кастен-Тейлора и Вирины Паравел или «Центрального региона» (1971) Майкла Сноу). За исключением маргинальных экспериментов в большинстве случаев люди бесспорно участвуют в процессе создания фильмов (и тем более могут выступать в качестве зрителей). Изменение оптики будет заключаться не в искусственном исключении человека из производственного процесса, а в перераспределении акцентов: в доказательстве того, что кино обладает собственной продуктивной силой, которая сосуществует с человеческим участием, но никогда не подчиняется ему до конца.
Вернемся к еще одному вопросу, прямо следующему из уже оговоренной, базовой для искусства ситуации, в которой его существование удостоверяется через встречу художника и реципиента (неважно, чей вклад преобладает). Мир искусства всегда оперирует произведениями – поименованными, овеществленными, оформленными вещами/явлениями, в отношении которых мы как раз и фиксируем с наибольшей готовностью человеческую роль в акте творения и восприятия. Зритель никогда не встречается с живописью – лишь с конкретной картиной, зодчий не создает архитектуру – только конкретное здание. Хотя Беньямин и указывает на неуместность разговора о произведении искусства в контексте фотографии и кино (ведь его смысл теряется в отсутствии ауры, идеи уникальности, превосходства оригинала над копией) – защитникам кинематографа как искусства все же, очевидно, удалось изобрести для него аналогичную форму. Коррелятом авторско-зрительских отношений стал фильм – всегда кем-то снятый и кем-то увиденный, унаследовавший от традиционных искусств коннотации произведенности, завершенности, целостности и единичности. Именно парадигма искусства с ее ценностью «произведения» принуждает с самоочевидностью считать кино всего лишь именем для совокупности снятых фильмов. И это – еще одна привычка, от которой нам придется отказаться.
Парадоксы found footage: кадр против фильма
Существует вполне конкретная категория кино, чье представление в качестве фильмов, все еще существующих в парадигме искусства с ее авторитетом законченности, уникальности и произведенности, оказывается проблематичным и из‑за ускользающей позиции автора, и из‑за сопротивления идее неразборного целого. Речь идет о found footage – методе создания кино, при котором фильм складывается не из материалов, отснятых в ходе организованного съемочного процесса, а из «найденных» кадров и эпизодов, позаимствованных из стихийных или институционализированных архивов или других фильмов.
В 2018 году на международных кинофестивалях состоялась премьера фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» (1918)29. Путь этой работы к зрителю обычно описывается в духе запутанного детектива30. В 1918 году тогда еще начинающий кинематографист получил заказ на изготовление масштабного документального фильма, посвященного празднованию годовщины Октября. Вертов с задачей справился, смонтировав многочисленные хроникальные кадры в единую двухчасовую ленту, но на экранах «Годовщина революции» задержалась ненадолго, а затем и вовсе исчезла в глубинах архива из‑за обилия кадров с попавшим в опалу Львом Троцким. Фильм, собранный из найденных материалов, после премьеры был повторно растаскан на отдельные кадры и эпизоды, тематически подходящие для других работ: реальные пленки в архивах хранились отдельно друг от друга, в соответствии с новой пропиской, а перечень «надписей» (порядок интертитров) потерялся. Следы существовавшего когда-то фильма сохранились только в протокольных документах, так что дебют одного из самых известных режиссеров советского времени превратился для историков кино в Атлантиду. Поиски начались с середины 1960‑х годов, когда киновед Виктор Листов опубликовал статью, где исчерпывающе описывалась проделанная им поисковая работа. Но только в 2017 году дело завершилось успехом: Николай Изволов и его коллеги сперва отыскали точный список интертитров, что позволило восстановить порядок хроникальных кадров, а затем нашли и атрибутировали растасканные по другим фильмам материалы. Фрагменты были заново склеены друг с другом, а ленте дано аутентичное название и, что наиболее важно в контексте нашей проблемы, возвращено авторство. На всех афишах режиссером «Годовщины революции» значился Дзига Вертов, что обеспечило фильму премьерный успех во всех странах – не сравнимый с показами других восстановленных лент. Помимо магии архивных поисков, таинственности затерянного и найденного и исторической ценности запечатленных движений Ленина и Троцкого, основную ценность фильма для пришедших на показы зрителей очевидно составляло имя Дзиги Вертова, в присутствии которого это скопление хроникальных кадров начинало рассматриваться как произведение искусства, со своим замыслом и авторской реализацией. Отсюда повторяющиеся темы для обсуждения: как в «Годовщине революции» проявляется хорошо знакомый стиль Вертова? Как фильм, напротив, повлиял на его последующее становление? Зрители восстановленной ленты явно хотят услышать, что перед ними не просто расставленные по порядку хроникальные кадры, а композиция, за которую ответственен конкретный, известный им человек.
Как правило, эта установка корреспондирует с реальной ситуацией кинопроизводства: у фильмов действительно есть режиссер, по крайней мере, номинально контролирующий процесс их создания. Однако в «Годовщине революции» культурная потребность в подобном авторстве противоречит действительному положению дел: Дзига Вертов может присутствием своего имени на афишах успокаивать и привлекать аудиторию, но на самом деле имеет мало отношения к фильму, который мы смотрим. Под его руководством не было отснято ни одного кадра – еще в момент создания они готовыми вынимались из безымянного хроникального архива. Итоговый монтаж существующей теперь версии осуществлен Николаем Изволовым в соответствии с сохранившимся архивным списком (составлял ли его непосредственно сам Вертов или кто-то другой – нам также неизвестно). Но ни одна рекламная кампания не решилась промоутировать «Годовщину революции» через указание на неопределенность ее авторской принадлежности, обслуживая тем самым хорошо известные зрительские установки. Кино как неоформленному скоплению пленок никогда не удастся пробиться к фестивальной аудитории, культивирующей статус автора и нуждающейся в знании о том, с кем (а не с чем) в процессе просмотра она имеет дело.
«Годовщина революции», как и другие компилятивные фильмы, вызывает беспокойство и другого рода. Указание на то, что в ходе создания новой ленты собирающий ее режиссер работал с многочисленными и безымянными хрониками, вынуждает вообразить, какое количество кадров, отснятых без повода и цели, так и не вошло ни в какие фильмы и, соответственно, не было увидено. Такова судьба хроники, у которой, в отличие от фильмов, отношения с миром искусства так и не сложились. Если что и не вписывалось в разнообразные авторско-зрительские концепции существования кино, то это именно она: хаотично складывающаяся, никогда до конца не отсмотренная и не представленная, не продуманная, безымянная, сводящая авторство к тому, кто будет, наподобие штатива, держать в руках камеру. Хроника – это сфера, к которой всегда с пренебрежением относились философы киноискусства, но которая, если складывать все существующие метры пленки, без сомнений, в несколько раз превзойдет по длине все когда-либо созданные и поименованные ленты, демонстрируя, что даже в чисто количественном, арифметическом измерении кино гораздо больше, чем совокупность фильмов.
Далеко не всегда, однако, режиссеры, работающие с found footage, используют неатрибутированные кадры для создания новых лент. Можно вспомнить, например, как Фрэнк Капра, монтируя агитационную ленту «Прелюдия к войне» (1942), частично встроил в нее фрагменты из «Триумфа воли» (1934) Лени Рифеншталь. Американскому режиссеру они потребовались для решения вполне конкретной задачи: продемонстрировать зрителям изображения Гитлера, снятые с особенным пиететом, чтобы закадровым голосом перевернуть их значение, указав на пугающую степень восхищения, с которой немецкая нация славит фюрера. Но во мне эта миграция кадров пробуждает обеспокоенность другого, не содержательного характера. Какому фильму и, соответственно, какому автору после подобного перемещения принадлежат теперь изображения Гитлера, если мы захотим дать им прописку, – «Триумфу воли» или «Прелюдии к войне»? И могут ли они, вслед за этим перемещением, появиться в составе новых и новых лент, совсем утратив связь с местом и целью своего возникновения?
Похожие миграции особенно часто встречаются в области экспериментального кино. Кен Джейкобс в 1969 году выпустил фильм «Том, Том – сын дудочника», составленный исключительно из чрезмерно растянутых или искаженных иными способами кадров одноименного короткого метра Дж. У. Битцера 1905 года. Австрийский режиссер-эссеист Мартин Арнольд с помощью луп-эффектов схожим образом трансформирует фрагменты из известной голливудской серии фильмов о пареньке Энди Харди. Харун Фароки собирает бесчисленные выходы рабочих с фабрики для одноименного киноэссе, а киновед Том Андерсон шерстит американские фильмы в поисках кадров с Лос-Анджелесом для трехчасового эссе о репрезентации города в кинематографе. Этот ряд можно продолжать бесконечно, ведь сегодня, с появлением интернета и перетеканием киноархивов в Сеть, пользователи получили неограниченную возможность монтировать новые видео из давно отснятых кадров. Единичные изображения находятся в неконтролируемом процессе транзита.
В большинстве случаев авторы, пишущие о практиках found footage, хотя и фиксируют миграцию кадров, их потенцию к ускользанию от внятной фильмической прописки, все же концентрируются в конечном счете на том, как изображения успокаиваются и находят приют в какой-нибудь новой целостности, внутри очередного фильма. Но, на мой взгляд, главным здесь остается другое: found footage заставляет пересмотреть столь устойчивое представление о фильме как фундаментально целостном объекте, указывая на то, как естественно для него пересобираться и распадаться на отдельные кадры.
***В эссе Хито Штейерль «Политика архива: перевод в кино» описывается история трансформаций малоизвестного югославского фильма «Битва на Неретве», кадр из которого автор однажды случайно увидела в музее кино. Загоревшись идеей найти его вновь и использовать для собственного художественного проекта, Штейерль отправилась на самостоятельные поиски доступных копий конкретного фильма, столкнувшись с бесконечным количеством его вариаций. Свидетельствуя о том, что «фильм распался на несчетное количество версий самого себя»31, художница перечисляет, как в разных случаях формат искомого кадра менялся с 16:9 на 4:3, как в некоторых копиях ленты он вовсе отсутствовал, как в других к нему добавлялись субтитры. Дискурсивная стабильность фильма как объекта, созданного раз и навсегда, в реальности сталкивается с постоянными изменениями, размножением неподобных друг другу копий. Можно ли сказать, что во всех приведенных случаях Штейерль все же имела дело с фильмом «Битва на Неретве», если в ходе поисков она пришла к выводу, что его оригинала не существует? Можно ли сказать, что кадр, который был ей нужен, принадлежит фильму «Битва на Неретве», если существуют такие копии фильма, где он отсутствует?
В случаях found footage разрушение атрибуции кадров конкретным авторам и фильмам через переприсвоение и искажение встроено в общий режиссерский метод (Вертова, Шуб, Фароки, Билла Моррисона и т. д.). Но случай, о котором пишет Штейерль, вынуждает задуматься о том, что даже в отсутствии выраженного намерения нарушить целостность фильма она все равно эфемерна. В отличие от вещной целостности картины, скульптуры, здания – обеспечивающей им беньяминовскую ауратичность – фильм не просто подвергается руинизации, а изначально существует лишь как вре́менная сборка, готовая в любой момент распасться на отдельные изображения или воспроизвестись иначе в новых копиях.
В статье, посвященной циркуляции скриншотов, Максим Селезнев акцентирует внимание на том, что существующая на данный момент традиция исследований кино принимает мышление фильмами в качестве безусловной предпосылки для изучения кино:
Так или иначе, самой удобной и базовой единицей измерения истории кинематографа и собственных кинопросмотров как для ученого, так и для зрителя становится фильм. <…> элементы кинематографа оцениваются в контексте фильма, что придает каждому из таких явлений статус частичного. При всей кажущейся логичности такого подхода, если посмотреть повнимательнее, может оказаться, что за ним стоит инерция восприятия (автоматическое следование сложившейся структуре истории кинематографа), и даже в большей степени индустриальные стандарты, – фильм как единица измерения удобен потому, что его созданием и продажей легко отсчитывать производственный и финансовый циклы32.
Основной причиной инерции и подобного восприятия становится как раз восприятие кино в качестве искусства, в рамках которого необходимо нарезать его на произведения, обладающие целостностью, законченностью, соотнесенностью с автором и формой подачи, адекватной для представления зрителю. Интересно, что совпадение между средней продолжительностью кинотеатрального сеанса и средней продолжительностью фильма оформилась не сразу. Как пишет Мириам Хансен, рассказывая о ранних зрительских практиках в американских кинотеатрах 1900‑х годов, первоначально аудитория приходила в кино не на отдельную ленту, а на программу зачастую никак не связанных между собой коротких метров. Специфика такого сеанса лучше всего передается словом variety (смесь): «Каковы бы ни были количество и статус фильмов в программе… их последовательность аранжировалась случайным образом, соперничая в общей структуре программы с ее акцентом на разнообразии, сдвигах настроения и стиля репрезентации»33. Другой исследователь ранних кинопросмотров Мальте Хагенер в статье о кураторских практиках авангардных киноклубов в европейских городах 1920–1930‑х годов пишет не только о сочетании разных коротких метров внутри одного киносеанса, но и о том, что фильмы могли показываться не целиком, а как серия фрагментов – и в таком виде обсуждаться с публикой34.
Хансен в принципе посвящает большую часть текста обсуждению фигуры кинодемонстратора в ранних кинотеатрах: не будучи скованным строгими указаниями о том, как показывать фильм, он мог позволить себе произвольно менять последовательность фрагментов, а какие-то – вырезать:
…уже не кажется странным, что ранние фильмы, состоявшие из набора кадров, зачастую дистрибутировались в виде отдельных роликов, которые прокатчик мог собирать на свой вкус. Самый знаменитый пример тому – крупный план бандита в «Большом ограблении поезда», который показывали либо в начале, либо в конце фильма в зависимости от контекста демонстрации. <…> демонстратор являлся более практиком волшебного фонаря, чем проекционистом, обладая контролем над монтажом независимо от нарративной или пространственной логики эпизодов35.
По приведенным примерам видно, что в первые десятилетия существования кино форма фильма вовсе не воспринималась как нечто незыблемое, но регулярно пересобиралась и трансформировалась. Кадр и фрагмент оказывались куда более релевантными в качестве единицы измерения кино. Как и во многих других аспектах, фильмическая унификация показов начала проникать в кинотеатры с появлением звуковых лент – в отличие от немых их требовалось воспроизводить со строго определенной скоростью, а перемешивание фрагментов также становилось более затруднительным ввиду усиления внутренней нарративной связности, на которую у публики со временем возрос спрос.
Форма фильма действительно оказалась удобнее и понятнее, а также – что крайне важно для индустрии – стала активно потребляемой, потому что была способна доставить зрителю удовольствие. Здесь пригодится не новое, но не утратившее точности наблюдение: всякое удовольствие коренится в оформленности – в единстве, целостности, закономерности. Англо-шотландские философы вкуса, а следом и Иммануил Кант, основной процедурой производства удовольствия называли сведение многообразия к единству, к образованию устойчивой формы, которая легко схватывалась созерцающим и оценивалась как «прекрасная». Так эстетик-гедонист пытался сбежать как можно дальше от природного хаоса. Чуть позднее Альфред Норт Уайтхед будет выстраивать свою онтологию на схожей идее: в «пустыне фактичности»36, где царствует становление, сохраняется лишь то, что наделяется ценностью – выхватывается, удерживается, обволакивается эмоциональной пристрастностью, не дающей рассеиваться в потоке. Кинематограф как индустрия и как часть мира искусства нуждается именно в фильмах – основной единице на рынке и единственном способе сделать хаотичное и бесконечное кино ценным продуктом. Именно из этих соображений кино всегда подавляется фильмом – универсальным оседлым делителем, сводящим множественность движений к единству формы. По остроумному выражению Жана-Франсуа Лиотара, «все концовки – это хеппи-энды, потому что каждый раз все заканчивается»37.
Чтобы двигаться дальше, нам необходимо усвоить, что для кино существование в виде совокупности фильмов – не естественное положение вещей, а одна из базовых конвенций, навязанная извне, – критиком, которому удобнее говорить о конкретных премьерах; зрителем, которому хочется, чтобы сеанс его отношений с кино был регламентирован; режиссером, для которого конечность фильма нужна ради воплощения собственных замыслов. Словом, как и принадлежность к миру искусства, деление кино на фильмы носит не онтологический характер, а сугубо прагматический и дискурсивный, продиктованный нуждами индустрии.
Новый философский проект, развивающий идею кинематографической автономии, не может ориентироваться на кино, предстающее перед нами в виде фильмов, начало и конец которых всегда определяет тот, кто его создает, а удостоверяет зритель. Отделение кино от фильма необходимо, чтобы в дальнейшем избежать путаницы и не подменять, как это делали редкие кинотеоретики, также писавшие об автономии кино, субъектность кино – субъектностью фильма.
Глава 2. Кино (не) как язык
В сторону нарративной унификации
Видео швейцарского эссеиста Йоханнеса Бинотто Facing Film (2017) длится всего две минуты. На экране – Джон Уэйн. Наезд – переход со среднего плана на крупный – сближает зрителя с его персонажем из фордовского «Дилижанса» (1939). «Эй, Ринго!» – окликает его возница из соседнего кадра. Черный экран. Кадр с наездом повторяется снова – уже в тишине, без диалоговых реплик и без продолжения. Вспоминается название видео – с кем именно Бинотто предлагает встретиться лицом к лицу? Зритель привычно смотрит по центру – наверняка вглядывается в глаза Ринго-Уэйна. «Но здесь есть еще кое-что», – сообщает титр. Кадр замедляется, чтобы сделать заметнее расфокус, в который, пусть всего на долю секунды, попадает человеческое лицо, чтобы уступить место чему-то другому. На шестом повторении Бинотто смещает кадр – тогда вдруг проступают впервые отчетливо заметные для зрителя пленочные царапины. «Это кожа материала. С морщинами и шрамами. The Face of Film».
В английском языке слово film значит и пленку, и собственно фильм, – поэтому затруднительно сказать точно, на встрече с чьим же лицом в этом кадре настаивает Бинотто. Из контекста – с метафорой кожи, со словами о морщинках и шрамах – кажется, что его мысль все же более конкретна и речь идет о пленке. Это с ее лицом мы встречаемся в кадре, когда начинаем различать обыкновенно скрытую от нас материальную фактуру. Но все же не стоит забывать о намеренной двусмысленности (ведь чтобы избежать ее, можно было подобрать более однозначный синоним), – а значит, наблюдение эссеиста можно воспринять и шире: лицо пленки открывает нам также и лицо фильма. А лучше, памятуя о выводах прошлой главы, сразу поправить: лицо кино.
Чтобы увидеть его, как показывает Бинотто, не обязательно рассматривать кадры из экспериментальных лент: лицо кино обнаруживает себя как след даже в классическом голливудском фильме, – но нужно сместить фокус, не поддаться привычке.
А между тем чистое кино уже возвещает о себе. Мы обнаруживаем его в отдельных отрывках некоторых фильмов; в самом деле, отдельные фрагменты фильма – в том случае, когда впечатление, произведенное ими на зрителя, достигнуто чисто зрительными средствами, – это уже, пожалуй, чистое кино38, —
писал Рене Клер. Эта фраза – манифестация свободы, возможности выхватывать из кинематографического потока отдельные фрагменты, чтобы найти в них то чистое кино, что скрыто за и под фильмической толщей. Чья природа всегда ощущаема, хотя пока и не определена.
Организация одного кадра и последовательность нескольких навязчиво приглашают нас обратить внимание на конвенционально важное – харизматичное лицо актера-героя, на сюжетный поворот, который запускает его появление. Мы охотно откликаемся на этот зов, предпочитая смотреть сквозь лицо пленки / фильма / кино – как в окно, открывающее нам доступность диегетического мира. Но, настаивает Бинотто, в каждом отдельном кадре нам никуда не деться от ненавязчивых, но упорных в своем существовании следов присутствия кино. И если один раз ты ненароком заметил его лицо вместо лица персонажа, то затем уже не перестанешь его замечать – пусть даже теория, индустрия и большинство существующих кинематографических практик старательно увлекают зрительский взгляд совсем в другую сторону.
В какой момент закрепилась норма, предписывающая зрителю смотреть сквозь кино?
***Закрепление конвенций предполагает распределение кинематографических явлений между важными и второстепенными, традиционными и экспериментальными, популярными и маргинальными. Яркий ревизионистский проект истории кино, ставящий подобную нормативность под сомнение, в свое время предложил франко-американский теоретик Ноэль Бёрч. Он пытался доказать, что установление нарративно-ориентированного стиля – подчиняющего все элементы кино логике рассказанной в фильме истории – вовсе не было ни единственно возможным, ни естественным путем развития кинематографа. Хотя приемы «американского монтажа» (параллельный монтаж, конвергентный монтаж, крупный план), в основном нацеленного на увязывание оторванных друг от друга кадров в повествовательную структуру, уже в 1910‑е годы обрели статус универсальных, Бёрч справедливо указывает, что кино вовсе не начиналось с них, а в первые годы существования переживало период кинопримитивов, создаваемых в совершенно иной логике – акцентирующих внимание на зрелищности, вырванной из повествования39. К этому можно добавить, что и позднее – уже в 1920‑х годах – американский «органический монтаж», как окрестил его Жиль Делёз, ссылаясь, главным образом, на методы, разработанные Дэвидом Уорком Гриффитом40, сосуществовал с равноправными соперниками: советской, французской, немецкой, шведской, итальянской кинематографиями, не похожими по обращению с монтажом, движением, декорациями на голливудский стиль. Унификация произошла гораздо позднее. Бёрч не стремился ниспровергнуть очевидную популярность и востребованность американской нормативной схемы, он лишь отказывал ей в естественности и проектировал альтернативные исторические сценарии. Голливудская система конвенций, одержавшая верх в конце 1920‑х годов, была названа им «институциональным модусом репрезентации»41, который сместил с доминирующих позиций зрелищный тип кинопримитивов (а вовсе не присутствовал в кино изначально!) и выиграл конкуренцию, например, у канона советского кино (но мог и проиграть!). В качестве одного из примеров «диссидентского кино»42, которое так до конца и не покорилось голливудскому влиянию в тот момент, когда оно уже распространилось достаточно широко, Бёрч приводил японское довоенное кино, ранее ставшее предметом его отдельной книги43.