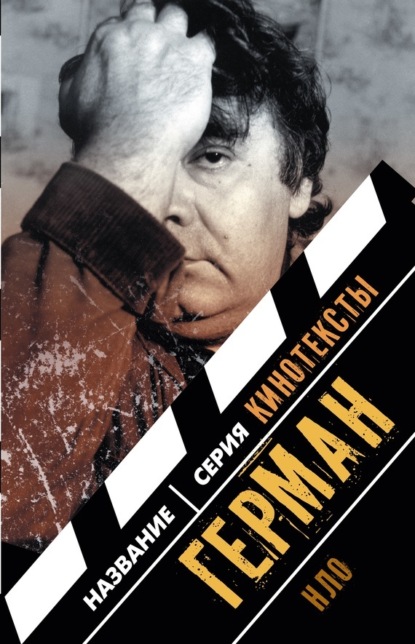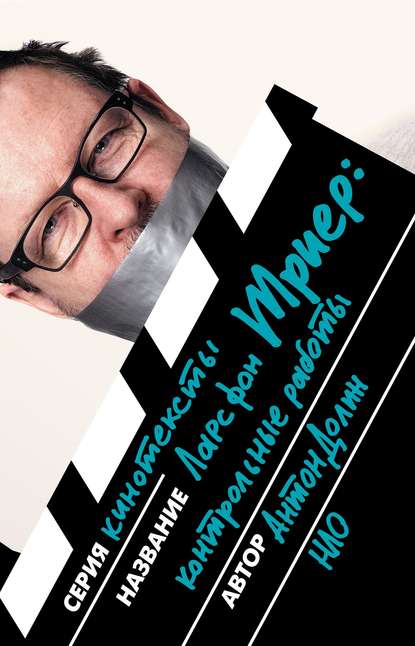Полная версия
Опыт киноглаза. Исследование кинематографической автономии
Я также благодарна за безграничную поддержку людям, с которыми в разное время делилась переживаниями, сомнениями, жалобами и анекдотическими ситуациями, сопряженными с долгим процессом подготовки и публикации этого текста: Александру и Наталии Поликарповым, Диане Абу-Юсеф, Ольге Балакерской, Александре Веселовой, Анне Краснослободцевой, Виктору Непше, Роберту Соловьеву, Яне Теловой. Особенно нежное спасибо я говорю своему мужу Марату Шабаеву, который не только превращает тезисы моих исследований в смешные шутки, но и волшебным образом устраивает нашу совместную жизнь так, чтобы она благоволила любому творческому процессу.
Как уже было сказано, эта книга никогда не придумалась бы без Смольного – факультета свободных искусств и наук, места, создавшего уникальное сообщество исследователей кино, частью которого мне посчастливилось стать. Я говорю спасибо тем, благодаря кому это сообщество обрело и держало форму – Нине Савченковой и Ольге Давыдовой, а еще – моим чудесным одногруппникам, рядом с которыми два незабываемых магистерских года дышалось так хорошо. Я особенно благодарна Артему Радееву, в разговорах с которым большинство изложенных здесь идей оттачивалось задолго до того, как превратиться в текст, и Андрею Фоменко, показавшему, в том числе – собственным примером, как не потеряться в этом мире за пределами уютных сообществ.
Я также благодарю студентов Смольного и Школы дизайна НИУ ВШЭ – за поддержку, за интерес, за вдохновение, за готовность мириться с тем, что я придумываю, как вплести рассуждения о Дзиге Вертове в каждый свой курс. Но особенное спасибо я говорю Веронике Гафетулиной и Дарье Бовшиковой – только увидев, как в их прекрасных текстах некоторым изложенным здесь идеям находится применение, я по-настоящему поверила, что у этой книги появится свой читатель.
Спасибо всей команде издательства «Новое литературное обозрение» и особенно – редакторам серии «Кинотексты»: Яну Левченко, первым давшему этой рукописи зеленый свет, и Алексею Гусеву, чутко над ней поработавшему.
Отдельные фрагменты текста, касающиеся дискуссий о кино как искусстве в ранней кинотеории, метода Дзиги Вертова, противостояния структурного и расширенного кино, ранее были опубликованы в статьях: Поликарпова Д. Кино не как искусство // Terra Aestheticae. 2019. № 4. С. 154–183; Поликарпова Д. Стратегия киноглаза: к вопросу об автономии кино // Кинема. 2021. № 1. С. 128–139; Поликарпова Д. Структурное кино vs Расширенное кино: в поисках кинематографического опыта // Давыдова О., Никонова С., Поликарпова Д. и др. Кинематографический опыт: история, теория, практика. СПб., 2020. С. 301–324. Для настоящего издания их текст существенно переработан – изменен и дополнен. Тем не менее я благодарю редакторов перечисленных изданий за разрешение использовать в настоящей монографии материал ранних публикаций.
Раздел 1. Между автором и зрителем
В знаменитой статье Лоры Малви подробно описывается устройство и функционирование того типа кинематографа, который способен приносить зрителю наибольшее удовольствие. Одним из ключевых его свойств исследовательница называет антропоморфизм:
Конвенции традиционного фильма фокусируют внимание на созерцании человеческих фигур. Масштаб, пространство, повествование – все это антропоморфно. Здесь любопытство и желание смотреть смешиваются с восхищением перед похожестью и узнаванием: человеческого лица, человеческого тела, отношения между человеческими фигурами и их окружением, видимого присутствия человека в мире6.
Малви пишет эти строчки в середине 1970‑х годов. К тому времени кино уже проделало долгий путь, приняв и отточив большинство конвенций, способных гарантировать базовое приятие со стороны аудитории. Для многих теоретиков-неомарксистов (а их в это десятилетие появится особенно много) желание кинематографистов приспособить кино к потенциальному зрителю, сделать его не только источником удовольствия, но и комфорта, напрямую связывается с капиталистическим намерением извлечь из процесса максимальную прибыль. Аудитория вряд ли захочет посещать кинотеатры, если опыт, который это пространство будет ей обещать, окажется неудобным, непонятным, чуждым. Речь идет даже не о содержательной сложности – с ней при должных толковательных усилиях еще можно будет справиться (а удовольствие искушенной публики от подобных трудностей даже возрастет). Куда более непреодолимой оказалась бы чуждость формальная. Поток образов, в который человеку – его взгляду, его телу, его уму, – не удавалось бы встроиться. Можно предсказать полную зрительскую растерянность: кино демонстрируется не в виде целостных фильмов, а фрагментами, на экране нет фигур, опознаваемых как человеческие, камера открывает пространство без устойчивой точки входа, мир представлен образами объектов, подле которых человеческое тело не смогло бы расположиться, события рассыпаются без причинно-следственных связей. Мы знаем: такое кино существовало и существует. Для него у нас даже припасено специальное слово – «экспериментальное». Но ровно так же мы знаем: оно живет где-то на обочине большого кинематографа, чья востребованность, напротив, питается почти абсолютной приспособленностью к нормам человеческого мышления, переживания и восприятия.
Здесь и далее такое кино я буду называть конвенциональным или нормативным, утверждая тем самым искусственность, прагматичность и преднамеренность принципов его построения. Главная задача создателей нормативного кинематографа – антропоморфировать его, скроить по человеческой мерке. Но конвенции, помогающие справиться с этой, на самом деле, нетривиальной задачей, регламентируют не только устройство отдельных кадров и монтажных практик (хотя это, безусловно, тоже важно), но и весь дискурсивный контекст, в котором кинематограф существует большую часть своей жизни. Как раз ему и будет посвящен первый раздел моей книги.
Вопрос, которым мне сперва хотелось бы задаться, чтобы настроить читательскую оптику на киноцентричную перспективу, не онтологический («что такое кино?»), а дискурсивный – как мы привыкли о нем говорить? И, перефразируя общеизвестное высказывание, прежде всего нам нужно стать достаточно мудрыми, чтобы отличить один вопрос от другого. В этом разделе речь пойдет о том, как теория и методология исследований кино постепенно закрепляла за своим объектом ряд конвенций, вынуждающих мыслить его в сугубо антропологических координатах. Важным следствием подобного подхода стало безапелляционное растворение собственной агентности кино в человеческой коммуникации, главными участниками которой выступают автор и зритель. Долгое время нам предлагалось принять в качестве аксиомы, что существование кино полностью зависит от этих двух человеческих инстанций: оно должно быть кем-то сделано и кем-то посмотрено.
В теории этого согласия удалось достичь благодаря двум большим нарративам, вынуждающим, во-первых, мыслить кино как искусство, во-вторых, – как язык (или содержательное высказывание, сообщение). Критике этих подходов – а точнее, указанию на их сугубо конвенциональный характер – посвящены первые две главы раздела. В последней же рассматривается, как теория осуществила первую серьезную попытку вывести кино за пределы этой нормативной схемы. Однако и она, как я постараюсь продемонстрировать, лишь усугубила проблему кинематографического антропоморфизма.
Глава 1. Кино (не) как искусство
История вопроса
Известен тезис о том, что кино занимает исключительное положение среди других искусств: его существование начали осмыслять почти без запаздываний – практически синхронно с появлением первых фильмов. С кино связана и другая особенность, касающаяся не факта быстрого появления текстов, но манеры, в которой они создавались. Принципиальная новизна технологии не вынуждала вписывать ее в уже существующий контекст, что позволило представителям ранней теории чувствовать себя очень свободно в форме и содержании своих высказываний. Бела Балаш очень точно назвал этот тип письма, характерный для первого поколения исследователей кино, колумбовым7 – здесь истинные первооткрыватели могли позволить себе не держаться уже существующих ориентиров, а схватывать новизну явления без оглядки на многолетнюю традицию. Ни философия, ни искусствоведение, которые вскоре станут для теории кино постоянными спутниками-наставниками, в первое десятилетие ее формирования не устанавливали строгих канонов для дискуссий о новом техническом изобретении8. Авторы, пусть даже среди них были писатели или философы, спорадически делились первыми впечатлениями о кино, разошедшимися на цитаты, но далекими от систематичности9. Особенно развитая в западных странах система периодической печати позволяла анализировать свой кинематографический опыт и обмениваться интуициями о специфике кино, его технических особенностях, критериях мастерства в разных областях его создания и месте зрителя, сталкивающегося с совершенно новым типом зрелища.
В то же время параллельно этим хаотичным высказываниям стали появляться и первые комплексные работы по теории кино. Уже в середине 1910‑х годов дебютные монографии написали американские авторы – Луис Ривз Харрисон и Вейчел Линдси10. Названия обеих книг подчеркивали связь между кино и искусством – именно эта формула стала основной для большей части дальнейших рассуждений. Словом, кино стало атрибутироваться как искусство почти синхронно с первой основательной попыткой о нем поразмышлять.
В статьях и заметках эту связь можно проследить еще раньше11. Итало-французский теоретик Ричотто Канудо уже в 1911 году поставил кино в контекст философии искусства и даже присвоил ему порядковый номер, закрепившийся на долгие годы12. Его представление о специфике кино было основано на синтетической идее: по мнению Канудо, подлинно уникальным кино делали не отдельные технико-эстетические возможности (ритмизация света, движение пластических форм), а то, насколько умело оно сочетает в себе достижения и свойства других искусств. Новизна кино, его особость – результат тотального синтеза, зависящего от многочисленных сочетаний пространственно-временных элементов (пластических и ритмических). В нем наконец-то удалось совместить то, что раньше лишь противопоставлялось – формальную силу пространственных (архитектура) и временных (музыка) искусств. Эта теория, основанная на традиционной для эстетики классификации, оказалась достаточно авторитетной, чтобы идея о синтетической природе кинематографа постоянно воспроизводилась в исследованиях и повседневных разговорах вплоть до сегодняшнего дня.
Этот подход был проникнут желанием связать кино с наиболее общими концепциями философии искусства, целью которых является классификация, позволяющая разместить «новое искусство» в системе уже существующих форм, подчеркнув не столько его новизну, сколько преемственность. Вписывая кино в этот контекст, Канудо и его единомышленники едва ли пытались отыскать в объекте своего интереса принципиальное своеобразие. Скорее, для них было важно произвести типизацию, решить несколько стратегических задач, в числе которых – обоснование потребности в осмыслении кино, которая далеко не всем в начале ХX века казалась очевидной.
Что значит для кино быть искусством – вопрос, на который кинотеория никогда не давала внятного ответа, поскольку он предполагал бы ясность в отношении самого понятия искусства, чего с давних пор не наблюдается даже в исследованиях, прицельно посвященных этому вопросу. Известный эпизод в истории англо-американской философии – радикальные выступления антиэссенциалистов, отвергавших любые определения искусства, основанные на поисках его вневременной сущности13. Логичным следствием такой критики был бы отказ вообще задаваться таким вопросом, но аналитические философы поступили иначе, превратив проблему дефиниции в проблему идентификации и переложив груз ответственности с философов на актуальных представителей «мира искусства» (художников, критиков, кураторов)14. Теперь определять его предлагалось ситуативно, в каждом случае решая, какой объект принадлежит этому миру, а какой – нет. Однако этот ход, хотя и спровоцировал большую дискуссию в англо-американской философии, предсказуемо не сделал ответ на вопрос «что такое искусство?» более внятным.
Впрочем, кажется, что как раз для целей Канудо подобная неясность подошла бы как нельзя лучше: неутешительный для философов вывод, что «искусство» – категория, которая начинает что-то значить, лишь попадая в определенный контекст, никак не изменил ценностных коннотаций этого слова. Традиционно быть искусством – большая честь, хоть никто и не знает, что это такое. Именно по этому сценарию развивалась история кино-как-искусства: оно было названо так не почему-то (не потому, что обладало каким-то набором специфических характеристик), а для чего-то – чтобы обратить на себя внимание и спровоцировать подъем интеллектуального интереса, открыть новому явлению кредит доверия со стороны просвещенного общества.
Однако кино, признанное искусством, не только обретало ценность, но и в обмен принимало на себя определенные обязательства, главное из которых – отвечать ожиданиям публики. Основным таким ожиданием стала трансляция идей: искусство должно что-то значить. Естественно, сам по себе киноаппарат, впечатлявший первых зрителей своей технической сутью, не мог предложить ничего подобного, а значит – в дискуссиях его требовалось свести до положения инструмента в руках художника-режиссера.
Именование чего-либо искусством никогда не бывает нейтральным. И Канудо предполагал, что для кино быть искусством не сущностная характеристика, которая дается по одному только естественному складу, а привилегия – чтобы ее заслужить, необходимо не только удивить зрителя техническими возможностями, но и продемонстрировать, как через них могут выразить себя творческие усилия. По некоторым высказываниям Канудо можно предположить, что сам он был склонен восхищаться и самим кинематографическим аппаратом – например, его способностью фиксировать движение света. Но это впечатление быстро рассеивается: чтобы стать искусством, кино недостаточно технической данности – важен человеческий творческий акт и сила преодолевать материю:
Способ транспонировать «правду» в искусстве зависит не просто от того, что смогла камера выхватить из реальности. Эта правда имеет фундаментальный исток в сознании художника, от результата принятого им решения точно так же, как от его стиля. Недостаточно направить камеру на более-менее выразительных персонажей или пейзаж – это не будет работой художника, останется лишь вульгарным и посредственным жестом. Кино далеко от того, чтобы быть новой ступенью фотографии, в конце концов – это новое искусство. Миссия режиссера (ecraniste) – трансформировать объективную реальность в свое персональное видение. Обладать стилем – значит не запечатлеть нечто как объективный документ, но работать с запечатленным светом, чтобы пробудить особое состояние души15.
В нескольких ранних статьях Канудо в дискуссию о кино вводятся сразу все традиционные предписания, перешедшие из философии искусства:
а) Звание «искусство» надо заслужить. Кинематографическая техника может быть применена во многих случаях, а ее применение способно преследовать разные цели, но лишь некоторые из них принадлежат области искусства и потому достойны внимания.
б) Для того чтобы быть искусством, кино необходимо быть созданным: стать результатом выраженной авторской воли, умеющей воплотить идею, талантливо используя предоставленные технические возможности.
в) У кино-как-искусства, как и у любого проявления человеческой воли, должна быть общественная миссия, которая, с одной стороны, служит большой идее, а с другой – обращается к зрительским массам, ею зараженным. Можно сформулировать проще: кино-как-искусство не существует без зрителя.
Влиятельность этой позиции подтверждается любопытной аберрацией, заметной в дальнейших дискуссиях о кино в контексте искусства. Вместо того чтобы искать новые доказательства того, что кинематограф им является, идея о его принадлежности была принята в качестве аксиомы, с помощью которой защитники кино стали укреплять его шаткий (на тот момент) общественный статус. Альтернативные позиции, оппонирующие взгляду на кино как на искусство, воспринимались в качестве попыток его обесценить. Показателен спор между режиссером Марселем л’Эрбье и музыковедом Эмилем Вюйермозом: первый дал кино ставшее крылатым определение «печатающей жизнь машины»16, пытаясь освободить его от крепчающей оптики философии искусства, а второй увидел в этой попытке крайнюю степень пренебрежения, которое непременно «порадует всех врагов кино»17. Особенно вызывающим для Вюйермоза стал выпад л’Эрбье в адрес фигуры режиссера, которому последний отказывал в статусе художника (со свойственной тому креационистской силой) и отводил более скромную роль ремесленника-киномеханика. На это его оппонент резко возражал: несмотря на автоматичность процесса записи и сложное техническое устройство, энергию кинематограф получает лишь от творческой интенции режиссера, который стоит за процессом, насыщая простую запись чувством и мыслью18. Вюйермоз искренне удивлялся, как мог л’Эрбье, будучи режиссером, ставить себя и свое искусство в столь унизительную ремесленническую позицию, сводя всю работу к действиям машины-автомата.
Эта трогательная забота и негодование связаны с непреходящим представлением об искусстве как ценности, изъятие которой расшатало бы статус кинематографа. Но л’Эрбье, конечно, не желал включать кино в ряд искусств из иных соображений. Указание на машинную суть было для него не уничижительным, а нейтральным, а «печатание жизни» – обозначало тот самый процесс, который еще недавно производил настоящий резонанс в среде зрителей. Именно технические возможности записи, а вовсе не режиссерский вклад в преобразование материала собирали толпы людей на киносеансах в эпоху братьев Люмьер. Л’Эрбье искал своеобразие там, где Вюйермоз надеялся на уже готовые определения, порой вступавшие в противоречие с действительным положением дел. Л’Эрбье, например, писал, что сведение кинопроизводства единственно к силе художника попросту не соответствует действительности кинопроцесса, где кинематографическая работа производится конгломератом многих людей и разнообразием технических устройств19.
Если определение искусства до сих пор остается ускользающим, то получается, что отношения между кино и искусством могут носить исключительно номинальный характер. В отличие от вопроса «что такое кино?» вопрос «является ли кино искусством?» не онтологический, а дискурсивный. И для философии кино это важнейшее различие. Провозглашение кинематографа искусством, начатое Канудо и только крепнущее в последующие годы, в начале ХX века было призвано выполнять очень важную, но стороннюю по отношению к природе кино задачу: классифицировать новое явление так, чтобы оно не осталось незамеченным. Чтобы увидеть нечто, оно должно быть названо и встроено в существующую систему координат. Режиссеры-теоретики (такие как л’Эрбье) с самого начала указывали на несоответствия предложенной классификации, демонстрируя, как кино по разным причинам из нее выбивается. Но страх их оппонентов, для которых кино, названное не-искусством, разом утратило бы ценность и всеобщий интеллектуальный интерес, способствовал продлению и закреплению этой слепоты, непониманию того, как мало дает кинематографу этот статус и сколь ко многому обязывает.
Важно, что в ранней кинотеории (не только французской) существовала конкурирующая линия классификации: кино с тем же успехом вписывали не в историю искусств, а в историю оптических изобретений. Так оно рассматривалось в работах Дзиги Вертова (к его текстам я еще вернусь), Жоржа Мельеса20, Жана Эпштейна21, Фернана Леже22, Вильяма Вауэра23 и Карела Тейге24 – и расстановка акцентов в ходе такой аналитики существенно менялась. Прежде всего в этих работах подчеркивалась способность киноаппарата – благодаря своему устройству, а не творческому акту того, кто им пользуется, – видеть вещи иначе (в ином масштабе, на иных скоростях, в иной временной последовательности). Это различие очень важно. Канудо справедливо замечал, что в кино зафиксированный мир представляется иным, но основной вопрос в том, кто обладает силой вносить эту инаковость: исходит ли она от режиссера или производится самим киноаппаратом?
Впрочем, большинство теоретиков, заметивших чудесные съемочно-монтажные свойства аппарата-киноглаза, это наблюдение ни к чему не привело. Для них кино все равно не исчерпывало смысл своего существования названными свойствами, а раскрывалось только во взаимодействии с человеком. Это в конечном счете волновало теоретиков (например, Тейге или Вауэра) куда больше, чем сделанное ими же замечание о базовой уникальности кинематографического видения. Тем не менее важно зафиксировать, что на самом раннем этапе кино все же было схвачено в своих эссенциальных рамках – как то, что своеобычно вглядывается в мир, как перцептивный аппарат, обладающий собственным способом взаимодействия с окружающими его вещами при помощи «органов чувств».
Рассуждения о специфике кинематографического видения и его соотнесенность с категорией искусства можно найти в известном эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Хотя на первый взгляд может показаться, что Беньямин исходит из уже знакомых нам предпосылок – пытается разместить кино в понятном контексте традиционных искусств, – на деле его главные тезисы уводят разговор в совершенно другую сторону:
Если до того впустую потратили немало умственных сил, пытаясь решить вопрос, является ли фотография искусством – не спросив себя прежде: не изменился ли с изобретением фотографии и весь характер искусства, – то вскоре теоретики кино подхватили ту же поспешно вызванную дилемму25.
Вместо того чтобы искать в кино (и фотографии) сходства с функционированием классических искусств, Беньямин демонстрирует, что два новых технических изобретения, появившихся в XIX веке, настолько радикально трансформировали саму категорию искусства – лишив произведения ауратичности, уникальности, подлинности, уравняв в статусе оригинал и копию, – что от нее в дальнейшем либо придется отказаться вовсе, констатировав «смерть искусства» на рубеже веков, либо радикально переформулировать ее основания с поправкой на технические вызовы эпохи модерна, либо отказать фотографии и кино в принадлежности к ней.
Именно прозвучавшие так рано аналогии с другими оптическими изобретениями провоцируют современную теорию усомниться в том, насколько необходимой для кино является роль человека как создателя/автора. Уже Беньямин, формулируя уникальность фото- или кинематографического производства, опирается именно на те его свойства, которые не следуют из человеческого вклада, а вносятся самой техникой:
Если речь идет, например, о фотографии, то она в состоянии высветить такие оптические аспекты оригинала, которые доступны только произвольно меняющему свое положение в пространстве объективу, но не человеческому глазу, или может с помощью определенных методов, таких как увеличение или ускоренная съемка, зафиксировать изображения, просто недоступные обычному взгляду26.
Здесь возникает та же дилемма: либо мы порываем с желанием обсуждать кино (фотографию) как искусство, либо всякий раз напоминаем, что речь идет о том самом радикально изменившемся искусстве «эпохи технической воспроизводимости», для которого фигура автора теряет авторитет. Первый вариант кажется мне более предпочтительным, поскольку несмотря на то, что с появления эссе Беньямина минуло девять десятилетий, ассоциация между искусством и художественной деятельностью все еще остается слишком крепкой. Поэтому выведение кино за рамки искусства – коль скоро это соотнесение не сущностно, а лишь дискурсивно – не только возможно, но и необходимо для подготовки разговора о его собственной агентности. Разумеется, и в этом случае человек не устраняется из съемочного процесса, но его статус в процессе производства существенно меняется. Вряд ли можно сказать, что тот, кто пользуется телескопом, оказывается хозяином его оптических возможностей или ставит взгляд аппарата в зависимость от своего (скорее, наоборот). Использование может быть направлено на разные цели и приводить к разным результатам, но сама способность телескопа трансформировать масштаб, в котором воспринимается мир – видеть так, как человеческий глаз не способен, – предшествует любым конкретным практикам этого использования и принадлежит именно телескопу, а не воле того, кто в него смотрит. Такая постановка вопроса еще ничего не доказывает и не проясняет в отношении кинематографической агентности, но, по крайней мере, позволяет иначе взглянуть на то, как могут выстраиваться отношения между аппаратом и человеком, где второй перестает быть властителем первого27.