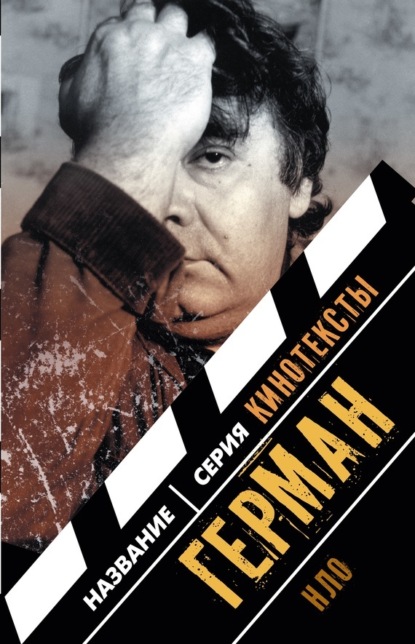Полная версия
Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино
Аргументация Джейкобса звучит более правдоподобно по отношению к переходному периоду, который характеризовался увеличением выпуска нарративных фильмов и снижением примитивного разнообразия – включая эксцентрическую комедию – после 1907 года. Подъем сюжетного кино, начавшийся в 1901 году, можно описать как развитие специфически американского своеобразия, особенно в усвоении «новостного стиля» художественными сюжетами. Тип нарративного кино, который в обилии появился около 1907–1908 годов, вовсе не отличался фотографической реалистичностью или вниманием к социальной среде. Напротив, растущий спрос, связанный с бумом никельодеонов, привел к расцвету «дешевой мелодрамы» – коротких, насыщенных действием сюжетов, заимствованных из популярных театральных скетчей, удовлетворявших вкусам рабочего класса151. Последующие усилия к достижению большего «реализма» – особенно развитие более сдержанного актерского стиля, психологической мотивации персонажей, внимания к живописной детали и отказ от рисованных декораций – отражали внимание индустрии к состоятельной аудитории.
Напряженность между непосредственными запросами рынка и долгосрочными институциональными целями могла породить определенное число фильмов «с социальной тематикой» (ключевое слово в аргументации Джейкобса), но по сравнению с общим валом американской продукции (не считая импортных лент) их доля была относительно малой. «Вайтаграф» как наиболее продвинутая и влиятельная производственная компания до Первой мировой войны выпустила две с половиной тысячи наименований между 1905 и 1916 годами. Примерно десятая часть из них касалась бедности, трущобной жизни или этнических различий. Фильмы, которые затрагивали социальную тематику, такие как «101 выстрел» (1906, выселение из дома), «Девушка с мельницы» и «История из фабричной жизни» (1907, харрасмент и несправедливое увольнение, соответственно), «Альпийское эхо» (1909, иммиграция) или «Джин и беспризорник» (1910, эксплуатация сирот), использовали эти темы как предлог для мелодрам, саспенса и сентиментальных драм, но старались не касаться политических аспектов и этнических проблем. В большинстве случаев в продукции «Вайтаграфа» переходного периода фигурировала среда низшего среднего класса. Действие очень немногих фильмов разворачивалось среди представителей высших классов, хотя в начале 1910‐х годов их число возросло пропорционально использованию более изощренной визуальной стилистики152.
Специфическая социальная функция фильмов того периода – вопрос не столько сюжета и повествования, сколько способов репрезентации и адресации, которыми фильмы удовлетворяли желания зрителей. Так, «Вайтаграф» лидировала по части обслуживания среднего класса, что особенно проявлялось в использовании престижных источников (так называемые качественные фильмы) и появлении полнометражных лент уже в 1909 году, в том числе «Жизни Моисея». Продолжая получать доход от сетей никельодеонов, компания нацеливалась на более состоятельную публику в стране и за рубежом и более, чем какая-либо другая американская студия, культивировала европейские модели153. Попутно замечу, что сооснователь «Вайтаграфа», британский художник Джон Стюарт Блэктон, был идеологически близок Эдисону и присоединился к антисемитской кампании «Треста» против прокатчиков-иммигрантов, пытавшихся войти на рынок. Таким образом, неудивительно, что только ограниченное число фильмов «Вайтаграфа» может служить доказательством правоты Джейкобса. А что можно сказать о фильмах, производившихся компаниями с более консервативным отношением к рынку («Байограф»), или о фильмах, таргетировавших клиентуру никельодеонов, например «Древнееврейской серии» от «Юниверсала» или продукции компаний «Калем», «Любин», «Янки» или «Танхаузер»? Их можно считать маргинальными по сравнению с массовыми релизами, но они наглядно отражают довольно неустойчивые отношения между репрезентацией и рецепцией, а также трансформацию локальной, этнически определенной публичной сферы в обобщенный слой потребителей массовой культуры.
Я воспользуюсь примерами из жанра «фильмы гетто» (по определению Патриции Эренс), то есть мелодрам, в которых изображались тяготы еврейских иммигрантов, в основном женщин, в перенаселенных районах южного Ист-Сайда154. Эти фильмы безусловно являются типичными или по меньшей мере статистически репрезентативными. Среди фильмов «Байографа» с 1908 по 1912 год большая пропорциональная доля принадлежит фильмам на тему итальянской иммиграции155. Вместе с тем опыт еврейских иммигрантов традиционно занимал важное место как пример ассимиляции и распространения идеологии. Это была целая парадигма производства этнических образов и их использования. Поскольку евреи очень рано подключились к кинопроизводству, они, в отличие от других этнических меньшинств, в том числе темнокожих, оказали существенное влияние на создание своего публичного имиджа. Тем не менее этот модус личного контроля за образом себя на экране не влиял на общие принципы репрезентации, а также идеологические установки и характер ведения бизнеса.
Начиная с фильма «Старый ростовщик Исаак» (Biograph, 1908), реклама «фильмов гетто» подчеркивала избавление от антисемитских клише, известных по водевильным представлениям156. Эти клише, которые с легкостью попадали в ранние фильмы, такие как «Рекламная схема Коэна» (Edison, 1904), «Пожарная распродажа Коэна» (Edison, 1907) и «Молниеносные рисунки» (Vitagraph, 1907), процветали в комедии пощечин – жанре, характериризующемся карикатурностью и гиперболизацией157. Эксплуатируя антисемитские стереотипы, многие из этих комедий показывали жертву, которая действует наперекор принятым условиям в обстоятельствах, требующих от нее проявления физической сноровки, например на Дальнем Западе, в «Гражданской войне», на Кони-Айленде или в бойцовских поединках, и достойно показывает себя в этих новых обстоятельствах и рядом с другими этническими группами. (Это особенно ярко проявилось в фильмах, где снимались еврейские актеры, в том числе в продукции «Юниверсал» и «Мьючуэл».) С другой стороны, в мелодрамах антисемитские клише размывались либо дидактически (ростовщик – хороший семьянин, деньги – предмет необходимости, а не страсти к наживе), либо через сюжетные стратегии, в которых вознаграждалось стремление персонажа к ассимиляции.
«Фильмы гетто» строились на конфликтах между традиционными американскими ценностями, обычаями и межличностными отношениями, которые переживали кризис из‐за бедности, тяжелой работы и нездоровых условий жизни. В соответствии с каноном жанра мелодрамы, сюжеты в них фокусировались на разъединении и воссоединении семьи, умершей или умирающей матери, неверных невестах или «исчезнувших» мужьях и межпоколенческих конфликтах. До 1914 года действие фильмов, рассказывавших о несостоявшихся браках, например «Белошвейка из гетто» (Yankee, 1910), «Сердце еврейки» (Universal, 1913), «Пасхальное чудо» (Kalem, 1914), или о конфликтах между романтической любовью и браком по расчету («Роман еврейки», Griffith/Biograph, 1908), всегда разворачивалось на территории еврейской общины. Однако начиная с картины «Рождество еврея» (Lois Weber-Phillips Smalley), выпущенной в декабре 1913 года, источник конфликта уходит от проблем супружеской жизни и конфликтов отцов и детей, отказывающихся от веры предков. В послевоенных фильмах этого жанра супружеская верность становится эдиповым тропом, описывающим трудности ассимиляции. Любовный роман соединяется с идеологией «плавильного котла».
Переосмысление брачного конфликта в ранних «фильмах гетто» предполагает наличие другого концепта аудитории, которой предназначались эти фильмы, и других способов их потребления. «Роман еврейки» – рассказ о том, как дочь ростовщика отказывает найденному свахой богатому жениху и выходит замуж по любви за бедного книгопродавца. От нее отворачивается отец, но супруги с дочкой живут счастливо, пока мужа не убивают на улице, а жена не заболевает от горя. Малышка-дочь относит медальон, подаренный ей матерью, в ломбард, расположенный в гетто. Выясняется, что вещь принадлежала ее деду, который узнает внучку и прощает умирающую дочь. По большей части «Роман еврейки» снят в визуальном стиле «примитивов», с фронтальными планами и рисованными декорациями, за исключением двух натурных кадров, в которых сначала девочка одна, а потом с дедом идут по людной улице южного Ист-Сайда (бюллетень фирмы рекламировал эти кадры как «чрезвычайно интересные тем, что они были сняты в густонаселенных еврейских кварталах Нью-Йорка»). Хотя в картине содержатся рудиментарные паттерны линейности и смены кадров, повествование является эллиптичным, исходящим из того, что зрителю знакомы брачные обычаи евреев. Фильм адресуется аудитории, которая могла сочувственно отнестись к сути конфликта. То есть публике, по-видимому, знакомой с натурными комическими сценками, соседствовавшими с интерьером ломбарда158.
В дальнейшем критики неверно поняли замысел «Романа еврейки», увидев в конфликте различие в вероисповедании, а не вопрос классовой розни и патриархальной власти159. По их мнению, сопротивление героини ортодоксальным брачным обычаям, без сомнения, указывает на направление ассимиляции. Тем не менее конфликт романтической любви с браком по расчету нередко возникает в жизни евреев из Восточной Европы (и остается частым сюжетом еврейского кино вплоть до 1930‐х годов)160. Возможно, этому неверному «ассимиляционистскому» прочтению «Романа еврейки» способствовал более поздний фильм Гриффита «Ребенок из гетто» (Biograph, 1910), где юная еврейка находит приют в пасторальном ландшафте, выйдя замуж за благородного фермера. Более важным, нежели этот идеологический подтекст, представляется то, что «Роман еврейки» с его не вполне отчетливой адресацией имеет в виду публику, в значительной мере разобщенную в классовом и этическом плане, публику, сформированную неким общим опытом.
Таргетирование еврейской аудитории продолжалось и в течение следующего десятилетия выпуском соответствующих фильмов, в том числе с интертитрами на идише и английском языке. Для некоторых продюсеров, таких как Леммле, это сделалось регулярным явлением и продолжалось до конца 1920‐х, когда эта публика слилась с мультиэтничной массовой аудиторией. «Фильмы гетто» маркируют поворотный момент в этой стратегии, сосредоточивая в себе конфликт между краткосрочными рыночными интересами (обслуживание клиентуры никельодеонов) и долгосрочными целями (удовлетворение интересов среднего класса, размывание классовых различий). Увеличение после 1913 года количества фильмов о межэтнических браках не отражало реальности. Напротив, цифра таких браков была чрезвычайно низкой, в 1912 году они составили только 1,17 процента, что едва превышало количество межрасовых браков, заключенных в тот же период. Но, как отмечает Эренс, сюжеты о смешанных браках помогли продюсерам обслуживать еврейскую аудиторию и пропагандировать идеологию «плавильного котла» в целях расширения рынка сбыта: «Помещая в сюжет несколько этнических групп, продюсеры надеялись расширить аудиторию»161. Неслучайно Карл Леммле назвал свою компанию «Юниверсал».
Подключение евреев к кинопроизводству, безусловно, вносило свой оттенок, в чем можно убедиться, сравнивая «Рождество еврея» и «Пасхальное чудо». Однако мера аутентичности определялась в данном случае адресацией, выражавшейся в компромиссах, на которые шли создатели фильмов в интересах рынка, то есть самими механизмами репрезентации. Хотя «фильмы гетто» возвращают нас к нарциссической апелляции в духе «локальных новостей», казавшихся столь популярными всего несколькими годами ранее, они выходили за рамки этой узкой «саморефлексии». Будучи проявлением художественного вымысла, они отлучали объект репрезентации от его адресата. Будет трюизмом сказать, что реалистические произведения литературы и живописи XIX века редко предназначались для низших классов, которые они стремились изображать162. Этот парадокс репрезентации свойственен и социальным фильмам классического немого периода от «Чаши жизни» (West/Ince, 1915) до «Толпы» (Vidor/MGM, 1928). Соответственно, какой бы ни была их действительная рецепция, социальный реализм, рекламировавшийся компаниями «Калем», «Юниверсал» или «Байограф», был рассчитан на более широкую, чем прежняя, аудиторию – и цветных, и белых американцев, считавших себя «мейнстримом», а также соотносился с ностальгическими воспоминаниями адаптированных, вертикально мобильных иммигрантов.
Примером тому может послужить фильм Гриффита «Мушкетеры аллеи Пиг» (Biograph, 1912), где еврейский антураж сочетается с гангстерским сюжетом. «Мушкетеры…» уже уверенно демонстрируют сложившуюся стилистическую и идеологическую манеру Гриффита – с такими характерными чертами, как фигура беззащитной женщины, акцент на рыцарском благородстве, желание «включить город в пасторальный мир»163. Однако способ, которым воплощается иконография «фильмов гетто», иллюстрирует уже сложившиеся сложные отношения между репрезентацией и адресацией. Частично снимавшиеся на натуре в нижнем Манхэттене, «Мушкетеры…» известны своим «сухим документальным реализмом», «аутентичным» описанием теневой жизни164. Действие быстро перемещается между улицей, переулком, салуном и жильем. Относительно слабое внимание к пространству и систематические отсылки за пределы кадра наталкивают на мысль о достаточно подвижных, неустойчивых границах между публичным и приватным. Натурные кадры изобилуют «типажами с улицы» (название книги Хатчинса Хэпгуда 1910 года) – это шалопаи, проститутки, подростки, продавцы, владелец китайской прачечной и еврейский торговец, похожий на своего собрата в «Ребенке из гетто». Эти образы напоминают традиции реалистической фотографии, в особенности «Как живет другая половина» Джейкоба Рииса (1890). Хотя, возможно, они не столь выразительно аутентичны, как в работе фотохудожника, где фигуры словно вмерзли в своих тщательно продуманных позах в окружающую среду, бережно зафиксированную с почтительной дистанции165.
На этом якобы случайном, но на самом деле продуманном фоне главные герои выделяются благодаря актерскому стилю исполнителей и более тщательной работе камеры, что способствует идентификации на основе индивидуализации черт характеров персонажей, причем ни один из них не несет узнаваемых этнических признаков. Фильм рассказывает о любовной истории героини, которую играет Лиллиан Гиш, о соперничестве между ее ухажерами и войне уличных банд; история заканчивается воссоединением возлюбленных и миром на улицах. Комедийные краски сглаживают в фильме тяготы жизни бедняков, а бедность, насилие и вражда меркнут в лучах всеобщего примирения, когда Снэппер Кид (Элмер Бут) получает отступные от закадрового персонажа (следует титр: «Связи в системе»), а влюбленные заключают друг друга в объятия166.

Ил. 8. Лиллиан Гиш в фильме «Мушкетеры аллеи Пиг», 1912. Режиссер Дэвид Уорк Гриффит, оператор Г. В. Битцер.
Позиция публики определяется вводным титром: «Оборотная сторона жизни Нью-Йорка». Зрителю предлагается занять «правильную» сторону вне той социальной среды, которая показана на экране. Этой отсылкой к творчеству Рииса (хорошо знакомого с жизнью иммигрантов и бедноты) Гриффит выражает свою симпатию к людям и обычаям гетто с его особой красотой и живописностью, предлагая посмотреть на все это с выигрышной позиции туриста или с ностальгической теплотой. В то же время он предлагает зрителю внимательно вглядеться в фильм, используя механизмы идентификации: в частности, индивидуализируя характеры, выстраивая поведение камеры и приближаясь к иллюзионистскому вуайеризму классического кино. В этом плане образ иммигранта, которому предусмотрительно отводится декоративная роль, уже не выражает никакого специфического социального опыта, создавая вместо этого «реалистический эффект» (в бартовском смысле) и придавая аутентичность повествованию в целом167.
Чаплин, чья репутация как комедиографа рабочего класса ставит вопросы такого же порядка, делает проницательный комментарий по поводу иммигранта как образа и метафоры в фильме «Иммигрант» (Mutual, 1917). Выживание и брак Чарли с подружкой-иммигранткой (Эдна Первиенс) в этом фильме происходят благодаря тому, что обоих присмотрел художник, выбравший их в качестве моделей. «Реалистичен» ли этот финал или намеренно невероятен, он показывает осведомленность в механике превращения иммигрантского опыта в эстетическую и коммерческую ценность. Но Чаплину в образе бродяги также свойственна диалектика масскультовой репрезентации и потребления.
Ранние фильмы обладали радикальным влиянием на иммигрантские и бедные слои зрителей и, по-видимому, стимулировали фантазии о сопротивлении и независимости. Но в своем гиперболизированном показе процессов овеществления и отчуждения они содержали и анархический протест (задолго до «Новых времен») против регламентаций индустриально-капиталистического производства, строгой дисциплины, конвейерной машинерии. При всей апелляции к широкой аудитории, с какой Чаплин романтизировал образ бродяги с его вызывающей симпатию психологией, он также способствовал восприятию этого образа как «универсального и вневременного» как философ-экзистенциалист и вечный клоун168. Это вовсе не обязательно означает, что его фильмы – или в данном случае ассимилирующие «фильмы гетто» – всегда воспринимались в соответствии с намерениями их адресата. Контекст демонстрации все еще был достаточно различным для того, чтобы способствовать альтернативным прочтениям и, таким образом, в определенной степени – реапроприации.
Новый универсальный язык: зрительствоДинамика узнавания, апроприация и выпускание пара, характерные для фильмической репрезентации опыта иммигрантского рабочего класса, также прослеживаются в дискурсе возникновения кино как института, в том числе фильма как нового «универсального языка»169. Эта метафора использовалась в широком диапазоне контекстов – журналистами и писателями-интеллектуалами, социальными работниками и духовно ориентированными кинематографистами, продюсерами и защитниками индустрии. Она входит в резонанс с разными источниками, такими как французское Просвещение, позитивизм XIX века и метафизика прогресса, протестантский милленаризм (хилиазм170), и такими разными движениями, как эсперанто и реформизм так называемой Эры прогрессивизма171.
Отчасти возникшая в противовес цензуре, трактовка фильма как универсального языка была частью утопичного восприятия кино как средства коммуникации между людьми (народами). В то же время она предвещала ассимиляцию всего разнообразия в стандартизованной стилевой общности интернациональной культурной индустрии, монопольно регулируемой сверху172. Миф визуального языка, преодолевающего различия национальностей, культур и классов, становится топосом в дискурсе фотографии, сопровождавшем кино от первых сеансов Люмьеров до 1920‐х годов173. В общем виде использование метафоры фильма как универсального языка подчеркивало коннотации эгалитаризма, интернационализма и технологического прогресса (якобы изобретение кино не только сравнимо с изобретением печатного пресса, но и превосходит его). В Америке метафора универсального языка приобрела особую значимость, прежде всего с распространением никельодеонов, рассчитанных на недавних «иностранцев», незнакомых с английским языком или вообще неграмотных, и в этом качестве полезных для решения проблем иммигрантского общества. Популярность нового развлечения у иммигрантов приписывалась присущему кино способу невербального означивания: «…оно напрямую обращается к воображению, без всякого опосредования»174.
Еще один специфически американский вариант мифа универсального языка состоял во вписывании его в идею тысячелетнего Царствия Христа и вавилонскую традицию, резонирующую с тропом «визуального эсперанто». Притом что эти источники не являлись ни исключительно американскими, ни исключительно протестантскими (например, основатель движения эсперанто Людвиг Заменхоф вдохновлялся еврейским милленаризмом), уникальным представляется слияние кино с языком как отклик на американскую ситуацию. Не все церкви выступали против кино, а некоторые священнослужители даже пытались использовать его как инструмент религиозных и светских проповедей и приветствовали кино как новый, богом данный, универсальный язык175. Наиболее известный пример стремления «восстановить руины Вавилона» с помощью целлулоидной пленки – запрет Гриффита в адрес некоей актрисы на слово «киношка»:
Ведь она работала на универсальном языке, который был предсказан в Библии и который должен сделать всех людей братьями, потому что они смогут понимать друг друга. Он мог положить конец войнам и начать тысячелетнее Царствие Христа176.
Это убеждение, несомненно, сыграло свою роль в защите Гриффита от обвинений в расизме после выхода «Рождения нации» (1915) и помогло создать текстуальный комментарий к его следующему проекту «Нетерпимость» (1916).
В «Нетерпимости» гриффитовское понимание универсального киноязыка сближается с идеей другого пророка кинематографического милленаризма – поэта Николаса Вейчела Линдсея. В книге «Искусство кино» (1915) Линдсей разрабатывает свою концепцию кино как демократического искусства в терминах нового языка «иероглифики», точнее, новой «американской иероглифики» в духе Эмерсона, По и особенно Уитмена. Вдохновленный трансценденталистами не меньше, чем Гриффит, он связывает свою апологию киноиероглифики с нарождавшейся тогда идеологией экономики потребления:
Американская цивилизация с каждым днем становится все более иероглифичной. Карикатуры Дарлинга, реклама на обложках журналов и биллбордах, на автомобилях, фотографии в воскресных газетах вводят нас в цивилизацию, которая ближе Древнему Египту, чем Англии177.
Энтузиазм, который испытывал Линдсей по отношению к рекламному сочетанию письма и рисунка, игнорирует вопросы авторства, интереса и власти – в отличие от потребительского протокола, который на них зиждется и получает выгоду от изобилия кажущихся прозрачными, некодированными и универсальными образов.
В качестве самоочевидной, не требующей доказательств кинематографической версии «предначертания судьбы»178 метафора универсального языка быстро была воспринята публицистами и рекламщиками (это ярко выразилось в том, что Леммле выбрал для своей компании179 название «Юниверсал»). Возводя аудиторию иммигрантского рабочего класса в статус символа божественного провидения, миф универсального языка маскировал контроль над аудиторией. Социальные конфликты, а также этническая и культурная разобщенность исчезали в лучах вертикальной мобильности всеобщего братства. «Случайный автор» говорит редакторам журнала в вымышленном диалоге:
Вот в чем чудо кино: это искусство демократичное, искусство сообщества. Это своего рода новый универсальный язык, даже более фундаментальный, чем музыка, потому что рассказывает историю тем простым способом, каким обучают чтению детей, – через картинки. Здесь нет языкового барьера для чужого или неграмотного, здесь массы людей вступают в ритм живого движения к струящемуся впереди свету, навстречу красоте, взывающей к духу соревновательности. Всего за пятицентовик опустошенного человека, чья жизнь казалась ему самому пустым сном, покоряет чудо, он видит вокруг чужих людей и начинает понимать, насколько они все похожи; он видит мужество, вдохновение и агонию и начинает понимать самого себя. Он начинает чувствовать себя братом внутри сообщества, где властвуют мечты180.
Элиминируя проблемы рабочего класса и этнические различия из жизни иммигрантов, метафора универсального языка стала кодовым словом, расширяющим масскультурную базу кинематографа в соответствии с ценностями и чувствами среднего класса. Следуя той же экспансионистской логике, риторика универсального языка сопровождала попытки индустрии обеспечить доминирование американских фильмов на внутреннем и внешнем рынках. Начать с того, что метафора универсального языка поддерживала тоталитаристские и империалистские тенденции даже в наиболее эгалитарных и утопических образцах. После войны, когда метафора уже укоренилась в апологетическом дискурсе, любая возможная двусмысленность или ощущение напряженности исчезли, а цивилизационный прогресс стал синонимом мировой гегемонии американской киноиндустрии181. Однако еще до войны аргумент универсального языка принял интересный поворот в контексте кампании против иностранных конкурентов на внутреннем рынке как реакции на тот факт, что вплоть до 1908 года на рынке Соединенных Штатов доминировали зарубежные фильмы, особенно французские. (Эта кампания, в свою очередь, была связана с защитой «Треста Эдисона» от деятельности «независимых» и кампанией того и других против мелких дистрибьюторов, зависевших от импорта.)
В 1910 году журнал Moving Picture World открыл дискуссию «Что такое американский сюжет?», опубликовав редакционную статью в поддержку «фильмов, сделанных в Америке с американскими сюжетами». Этот крестовый поход c 1913 года возобновился поддержкой «американских художественных фильмов», когда европейские компании заполонили рынок своими «длинными» картинами182. Попытка контролировать внутренний рынок, утвердить превосходство американской продукции и стилевых решений над зарубежной вылилась в тенденцию подчинения единичного универсальному. На самом деле «американизация» кинематографа означала не столько поощрение специфически национальной тематики (например, «индейских» фильмов или вестернов), сколько акцент на развитии определенного типа фильмов: «простые жизненные истории (типа „Все из‐за молока“) без гиперболизации и разыгранные чистыми, приятными актерами» или то, что «наш народ хочет видеть и подразумевает под американскими сюжетами»183. Универсальный язык, с помощью которого американская продукция должна была одолеть иностранных соперников, на уровне стиля соответствовал формировавшимся кодам классического нарративного кино.