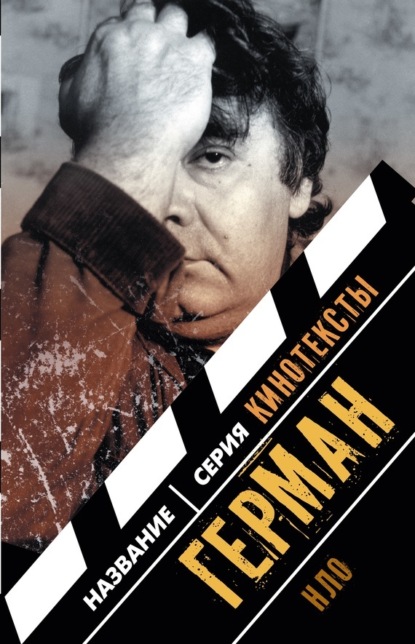Полная версия
Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино
2. Аудитории раннего кино: мифы и модели
Немногие темы в истории кино породили столько споров, сколько вопрос о социальном составе ранних киноаудиторий. В исследованиях историков и журналистских очерках о Голливуде долгое время утверждалось, что первоначально публикой кино были в основном иммигранты и представители рабочего класса, и это являлось единственным наиболее важным фактором в рождении американского кино как институции. Однако это утверждение проблематично, поскольку оно не только недооценивает другие факторы и интересы, но вызывает подозрение относительно одной из основ идеологии Голливуда касательно его самого – мифа, который рекламирует порождение гигантских корпораций как исконно демократичную популярную культуру. В последнее десятилетие историки-ревизионисты стали оспаривать утвердившееся мнение о симбиозе иммигрантской и рабочей аудитории, с одной стороны, и кинобизнеса – с другой.
Оснований для этого по меньшей мере три: ограниченное время периода никельодеонов, расположение кинотеатров не только в рабочих кварталах и развитие кинопрактики (классического способа наррации, жанрообразования и сюжетосложения), которые не обязательно отражали традиции культуры рабочего класса или этнических групп121. Как правило, споры об аудитории раннего кино фокусируются на периоде, следующем за 1905 годом, когда кино стало полнометражным и получило площадку в никельодеонах. Между тем социальный портрет аудитории кино предшествующего периода остается не менее противоречивым и труднодоступным для анализа. Аудитории разнились в силу контекста показа – в театрах, где показывали водевили и варьете-шоу, в дешевых музеях и аркадах, летних парках, на ярмарочных площадках, в спектаклях бродячих трупп. Общим для всех аудиторий было наличие огромной дистанции, отделяющей их от «благородной» традиции, доминировавшей в американской культуре после окончания Гражданской войны. Избегнув контроля со стороны культурных и религиозных арбитров, новая публичная сфера рождалась одновременно с целым спектром коммерческих развлечений, которые расцвели на рубеже веков.
Их зрители представляли собой разнородную массовую аудиторию, в основном из нового городского среднего класса, особенно вертикально мобильные «белые воротнички» и их семьи, а также наиболее преуспевающие представители рабочего класса, то есть все, кто мог заплатить за билет, оплатить проезд и позволить себе досуг. Доступ в эту новую публичную зону определялся скорее экономическими условиями (не учитывая разной степени расовую сегрегацию), чем высокими стандартами культурных традиций и социальной иерархии. Вместе с тем идеологическая ориентация новых форм развлечений, особенно водевилей и парков развлечений, была устремлена к стиранию каких бы то ни было классовых различий в среде зрителей, которым предлагалось участие в подчеркнуто бесклассовой, американизированной общности досуга122.
По сравнению с нарождающейся массовой публикой аудитория, которая собиралась в никельодеонах, обнаруживала более отчетливый классовый характер. Требуя за вход монетку в пять центов (nickel), перепрофилированные театры, магазины или салуны, появившиеся на Среднем Западе и на Восточном побережье после 1905 года, привлекали к себе не только сегменты рабочего класса, с некоторым усилием позволявшие себе популярные увеселения, но и миллионы людей, у которых совсем не было лишних денег123. Последние, главным образом из недавних иммигрантов и их семей, никогда прежде не рассматривались в качестве коммерчески значимой аудитории, за исключением таких маргинальных заведений, как этнические театры, мюзик-холлы, кукольные шоу, грошовые музеи или аркады. Никельодеоны заполнили рыночный зазор благодаря низкой стоимости билетов (тогда как билет на водевиль стоил не менее 25 центов) и гибкому расписанию (шоу различной длительности продолжались без перерыва, так что их можно было посещать по дороге домой с работы или после шопинга). К тому же, если походы в парк развлечений или театр в центре города требовали затрат не только на билет, но и на транспорт, никельодеоны распределялись достаточно широко и в доступной близости от возможных зрителей: рядом с торговыми центрами, на больших улицах и в рабочих кварталах124.
Никельодеоны предлагали легкую доступность и свободное пространство, отдых от домашней тесноты и тяжких трудов, от напряженного рабочего дня и условий жизни в урбанистической среде. Они обеспечивали способы рецепции и зрительского поведения, которые были ближе к традициям культуры рабочего класса и иммигрантской среды, чем к более продвинутым формам коммерческого досуга. Соседский колорит никельодеонов, то есть равноправная рассадка и непрерывный вход, а также формат варьете, внефильмические добавки в виде иллюстрированных песен, живых картин и любительских представлений – все это создавало атмосферу непринужденности и дружелюбия. Где и с какой частотностью ни посещался бы никельодеон, условия пребывания в нем заметно отличались от стандартов развлечений среднего класса, заданных другими досуговыми заведениями, в первую очередь «высококлассным» водевилем с дорогим билетом и утонченным представлением. Вместе с тем рынок кинопосещения маркировал значительные перемены в паттернах самой культуры рабочего класса – перемены, ориентированные на переход от этнически замкнутой, сосредоточенной на внутренних интересах публичной зоны к более инклюзивной, мультиэтничной сфере и от гендерно-сегрегированной публичной сферы (например, мужской клиентуры салуна XIX века) к гетеросоциальной сфере, где женщины всех возрастов и разного семейного статуса могли свободно пребывать вне семейного и общественного контроля125.
Никельодеоны отличались от традиционных для рабочего класса коммерческих развлечений главным образом тем, что в них предлагался товар национального и мирового уровня дистрибуции. Антрепренеры увеселительных парков и водевильных театров XIX века успешно применяли методы массового производства и маркетинга в досуговой сфере, переподчиняя таким образом местный контроль в этой области монополиям. Им, однако, не хватало технологии, которая сделала бы кино моделью массового потребления, по крайней мере в первой половине XX века. Наиболее продвинутые силы киноиндустрии, в том числе прокатчики и продюсеры «Треста Эдисона», а также поднимающихся независимых, осознавали потенциал кинотеатров и стремились привлечь более обеспеченную аудиторию.
Роберт Аллен показал, что в Манхэттене уже в 1908 году некоторые крупные и ограниченно показывавшие фильмы театры водевилей превратились в кинотеатры со смешанными программами кино и водевилей показов с умеренной (10–35 центов) входной платой. Демонстраторы в Нью-Йорке и других городских центрах, отвечая на запрос все более конкурентного рынка, начали совершенствовать качество показа зрелищ. Появившиеся профессиональные издания (Moving Picture World и др.) становились общенациональным форумом для обсуждения такого рода акций. Они рекомендовали варианты улучшений внешнего и внутреннего оформления и предостерегали против ориентации на национально ограниченные программы, этнические водевили и пение на иностранных языках, что влекло риски потери «традиционной» клиентуры. Совсем скоро никельодеоны перестали быть главным центром внимания со стороны индустрии, поскольку рынок переориентировался на «кинодворцы» и появились полнометражные фильмы с аудиторией, которая могла позволить себе больше заплатить за билет и имела больше свободного времени126.
Стратегия совершенствования индустрии заключалась в попытках поднять аудиторию кинотеатров до уровня вертикально мобильной публики развлекательного мейнстрима. Иными словами, речь шла о слиянии более или менее автономной публичной сферы никельодеонов с более восприимчивой, менее классово специфичной публичной зоной культуры потребления. По сравнению с «живыми» зрелищами кино в плане технологии репрезентации было более продвинутым по капиталистическому стандарту развития производственных сил. Однако в качестве зоны социального опыта кино отставало от растущей культуры потребления, и вытекающая отсюда изначальная маргинальность никельодеонов позволяла аудиториям – и зачастую и демонстраторам из той же социальной среды – формировать способы рецепции, напоминающие традиционные формы культуры рабочего класса и иммигрантских культур. Однако эти аудитории тоже стремились получить доступ к более «современному», более состоятельному американскому обществу, и их мечты о вертикальной мобильности совпадали с целью киноиндустрии совершенствовать и расширять свой рынок.
Владельцы кинотеатров и продюсеры нашли поддержку в лице реформаторов-прогрессистов, то есть группы, в целом оппозиционно настроенной к кинематографу. В течение двух-трех лет реформаторы из среднего класса воспринимали никельодеоны как «корень проблемы дешевого развлечения», и не только потому, что те собирали большие массы людей, но и потому, что грозили опасностями в пространстве темного зала перед светящимся экраном127. Подобно проституции и пьянству в среде рабочего класса, кино стало предметом исправительной борьбы. Одну из ее ветвей возглавили известные представители церковной верхушки, что привело к закрытию кинотеатров (самый известный случай произошел в Нью-Йорке 23 декабря 1908 года) и введению цензуры муниципальными властями по всем Соединенным Штатам. В ответ на эти угрозы Патентная компания кино поддержала Национальный комитет по цензуре, учрежденный Народным институтом – организацией, продвигавшей гражданские реформы. Еще одна стратегия реформаторов, нацеленная на регулирование досуговой активности рабочего класса, заключалась в защите производства фильмов, служащих подъему уровня морали, аккультурации и сдерживанию классовых конфликтов128. Убежденность в том, что кино можно приспособить к целям общественного прогресса, культивировалась такими журналами, как Survey (который поддерживался «Трестом Эдисона»), и вносила свой вклад в обоснованность политики индустрии, пытавшейся опереться на средний класс.
Борьба индустрии за статус публичной сферы повлекла за собой рыночное продвижение фильмов как товара (высокого) искусства. В этих целях продюсеры полагались отчасти на те же методы, которые десятилетием раньше помогли облагородить водевильную сцену. Речь идет об адаптации успешной продукции легитимных зрелищных площадок в виде сжатых «пьесок» и приглашении театральных знаменитостей (таких как Сара Бернар) в эпизодах фильмов, снимавшимся по известным работам с их участием129. Помимо водевилей, для повышения культурной респектабельности кино использовался опыт вестерн-шоу. С 1907 по 1911 год компания «Вайтаграф», например, выпустила почти полсотни фильмов, основанных на литературных, исторических и библейских источниках («Король Лир», «Наполеон, избранник судьбы», «Саломея» и др.), и многие из этих «качественных» фильмов удостоились благоприятных откликов профессиональной прессы130. Сам жанр кинокритики, продвигавшийся такими писателями, как Фрэнк Вудс, воспринимался в качестве деятельности, направленной на «общественное благо», и нацеливался на рассмотрение фильма как «произведения искусства, а не просто товара для продажи»131. При этом Вудс понимал, что претензия на эстетически значимый статус требовала не только опоры на уважаемый источник. Она зависела от развития особого способа повествования, основанного на психологической мотивации, на стандартах «реализма» и индивидуальности, опосредованно восходящих к роману XIX века.
Важнейшей фигурой в признании кинематографа искусством был Гриффит, причем в более сложной роли, чем просто легендарный «отец американского кино», как пишут в исторических обзорах. Работа Гриффита в компании «Байограф» (1908–1913) считается попыткой транслировать наследие буржуазного романа в фильмические формы: развитие сложной наррации, особенно с помощью параллельного монтажа, через трансформацию стиля театральной актерской игры к более психологической обрисовке персонажа, через использование крупных планов для передачи индивидуальности, нюансов интимности и внутренних переживаний132.
К концу переходного периода гриффитовский особый метод использования эпической традиции начал трансформироваться от институциональной к более развитым формам классического нарратива. В это время его заслуги перед индустрией, прежде всего благодаря успеху «Рождения нации» (1915), не столько засчитывались как эстетические достижения, сколько объяснялись его публичным имиджем «мастера», «художника», «гения», который поднимал престиж кино в целом. В этом смысле стремление Гриффита «превратить производственную индустрию в искусство и соответствовать идеалам культурной аудитории» было не просто облагороженным перифразом лозунга Адольфа Цукера: «Убить трущобную традицию в кино»133. Наивное стремление Гриффита к культурной респектабельности выявляло попытки индустрии утвердить новую публичную сферу. Кино заимствовало культурный фасад публичной сферы, сформированной буржуазными удовольствиями и разложившейся еще до начала Гражданской войны. Она никогда не была достаточно автономной и не имела соответствующей легитимности в отличие от ее европейских прототипов.
Наиболее эффективной стратегией был маркетинг кино как «демократического искусства», то есть валоризация «популярной» культуры. Отсюда следовала мифологизация самой аудитории, которая изначально как будто бы тормозила расширение рынка. С отступлением никельодеонов в тыл кинобизнеса все в большей степени дискурс небогатой публики приобретал риторическую и идеологическую окраску. Это было не отлучение от кино клиентуры из рядов рабочего класса, как поначалу предполагалось индустрией обслуживания «высших классов», а долгосрочная стратегия стирания всех классовых различий в однородной культуре потребления. Никельодеон использовал для этой цели могущественный миф о рождении кино, демократическая (и особенно американская) индустрия – легитимацию капиталистических практик и идеологии.
Социальная мобильность, исследование аудитории, аккультурацияНачиная с 1907 года никельодеон и его аудитория стали объектом внимания журналистов, реформаторов и социологов. Первые полученные результаты свидетельствовали об огромной популярности нового развлечения, разнообразии программ и аудитории, включавшей не только рабочий класс и иммигрантов, но также большое число детей и женщин (как семейных, так и одиноких). В частности, реформаторы отмечали функцию никельоденов как «института соседства», как социальное – и гетеросоциальное – пространство. Джейн Аддамс подчеркнула, что киносеанс был явно «менее формальным», чем представление в обычном театре:
там было гораздо больше общения и общественной жизни, как будто фойе и закулисье смешались воедино. Сама темнота зала… привлекала многих молодых людей, для которых это пространство несло очарование любовных утех134.
Для наблюдателя из среднего класса никельодеон казался странным феноменом, предлагающим заглянуть в пространство другой культуры, возможность окунуться в мир трущоб или в ту зону, которая требовала изучения и реформации. В течение первых лет аудитория рабочего класса воспринималась как часть зрелища – хотя бы потому, что их наивная поглощенность не позволяла им замечать, что они сами являются предметом наблюдения. Автор статьи в Harper’s Weekly признает этот вуайеристский компонент, характеризуя собственное путешествие подобного рода как незаконную акцию:
Представьте себе человека, который желает – разумеется, в метафорическом смысле – оказаться в шкуре карманника и пойти в один из этих пятицентовых театров. <…> войдя в такое вместилище быстрых удовольствий и вообразив, что он карманник, пусть он посмотрит на рабочий люд, на усталых, изможденных матерей с их орущими детьми, на детей улиц, разносчиков газет, чистильщиков обуви и чумазых голодранцев135.
Результатом таких экскурсий являются образы, которые красочной патиной ложатся на никельодеоны. Пишущий о них редко признавал свою очарованность, скорее было принято выражать снисходительное сочувствие. Например, один из наблюдателей сетует на топорность иллюстрированных песен («они играют на трех духовных струнах: слащаво-сентиментальной, патриотической и апеллирующей к вечности»). Он заключает:
И все же ни один живой человек не может не видеть жадное внимание аудитории, слушающей песню, не слышать голоса детей и взрослых, спонтанно присоединяющихся к общему хору, и не чувствовать, насколько глубоко проникает в сердца эта музыка, как живо она отвечает естественной потребности людей136.
Когда никельодены стали объектом внимания рекламы для среднего класса, им начали приписывать риторику социальной мобильности. Статьи в популярных журналах, если только они не проклинали кино как таковое, изобиловали такими клише, как «начальный курс драматургии для бедных», «академия рабочего», «бессловесная педагогика», «замечательный социальный работник»137. Профессиональные периодические издания печатали и перепечатывали некоторые из этих статей, приветствуя борьбу против цензуры. Однако чаще всего они публиковали более серьезный материал, посвященный анализу аудитории рабочего класса. С одной стороны, бесчисленные репортажи свидетельствовали об успехах усилий по ее облагораживанию, перечисляя зал за залом, привлекающие «новый класс зрителей». С другой стороны, терапевтический оптимизм таких репортажей указывал на то, что проблему было так просто не решить. В 1911 году рабочий класс все еще считался «составляющим огромное большинство клиентов кино», и даже в небольших городах (таких как Ворчестер, штат Массачусетс) так было и в 1914-м138. Это побуждало не только признать наличие так называемых простых людей, но и подчеркивать, как они себя прилично ведут, как они очарованы и впечатлены экранными событиями. А по мере того как «чумазые голодранцы» проходили процедуру очищения, поведение, типичное для «соседских» аудиторий – «громкие и неуместные комментарии», бубнеж и аплодисменты, «нытье малышей», – уходили в «далекое прошлое»139. В этих комментариях подразумевалось, что успех воспитания рабочей аудитории зависел от способности демонстратора произвести «тотальный эффект», тип магии, который стер бы социальные и культурные различия между зрителями и превратил бы их в однородную группу – «сплоченную, неподвижную массу лиц, чьи глаза неотрывно прикованы к экрану»140.
Тогда же некоторые колумнисты начали характеризовать рабочие аудитории как компетентных, знающих зрителей, способных дать и художественную и нравственную оценку увиденному. Луис Ривз Харрисон, один из немногих авторов, настаивавших, что функция кино состоит в развлечении, а не в стимулировании вертикальной мобильности, даже встает на защиту пресловутых «чумазых голодранцев», как обладающих естественной способностью «отличить плохо сделанную вещь, не являющуюся художественным произведением, от настоящего искусства». Он приводит в пример мнения рабочей аудитории в тогдашней полемике вокруг дешевых водевилей141. С популистским задором Харрисон отвергает «высоколобую» монополию на нравственность в пользу тех норм, которые проистекали из принципов демократии и «возможностей свободы». Однако его концепт «вкуса публики» почти неотличим от «логики рынка»:
Не так просто предугадать вкус миллионов мужчин, женщин и детей. Никакой отдельно взятый издатель или продюсер не может пойти дальше, чем просто строить об этом свои догадки, и, когда выясняется, что он попал пальцем в небо, отказывается признать поражение и пытается отрицать то, что должен бы уважать – реально живое и обдуманное суждение целого народа. <…> Действительно умные и обладающие властью не проклинают вкус публики, а изучают его142.
В противоположность этому мнению такие амбициозные критики, как Вудс, писавший для New York Dramatic Mirror, настаивали на существовании разницы между запросом публики и эстетическим суждением. Критикуя кампанию Moving Picture World за «всегда счастливый финал», он выводит за скобки «коммерческие соображения» (хотя сам признает, что публике нравится трагизм) и предпочитает обсуждать «не то, что публика безусловно желает, а то, что ей следует желать»143.
Учитывая ставку на средний класс, которую делала в то время индустрия, Харрисон проигрывал в этом споре. Тем не менее с течением времени его упование на массовый вкус «кассовой» демократии стало стандартным аргументом в идеологии массового искусства, в стремлении «просто дать народу то, чего он хочет». Рекомендация изучать «вкус народа» в последующие десятилетия реализовалась в систематическом исследовании Голливудом своего рынка144. В исторических очерках никельодеон стал основополагающим мифом идеологии, которую проводила реклама индустрии, ориентируясь на удовлетворение запроса как мотор демократического искусства. Портрет ранней аудитории, состоящей из рабочего класса, стал краеугольным камнем, «манифестом судьбы» американского кино, символом его прирожденной демократичности и жизненности. Один из первых историков кино и продюсер Бенджамин Хэмптон объясняет важность реакции как характерной черты быстрого развития индустрии:
Если зрителям понравился фильм и они ему аплодировали, владелец никельодеона радовался и пытался заполучить еще больше такого материала, а если они кривились, глядя на экран, он сообщал об этом на биржу, и биржа передавала эти сведения производителю145.
Так утверждается телеологическая значимость преобладающих практик, и публика начинает контролировать экран.
Никельодеон стал также основополагающим мифом для историков левого крыла, в частности Льюиса Джейкобса с его влиятельным исследованием «Рождение американского кино» (1939)146. В обстоятельствах Великой депрессии и Нового курса Джейкобс восхвалял американское кино как прогрессивную институцию и популярное искусство, базирующееся на органическом единстве бизнеса, творчества и социальной общности. По его мнению, эта органичная тенденция рано проявила себя – в симбиозе фильмов и их зрителей из рабочего класса. В отличие от апологетов индустрии, таких как Хэмптон и Терри Рамсей, Джейкобс фокусируется на социальной функции кино, особенно для массовой аудитории «новых» иммигрантов. Подобно реформаторам и социальным работникам (на данные которых он опирается), он усматривает эту функцию прежде всего в аккультурации и интеграции:
В 1902–1903 годах иммиграция достигла своего пика, и кино прививало новым гражданам, в частности, уважение к американскому закону и порядку, служило пониманию общественного устройства, внушало гордость за американское гражданство и благосостояние. <…> Более очевидным способом, чем другие посредники, фильмы открывали социальную топографию Америки иммигрантам, бедному и деревенскому населению147.
Подчеркивая возможность изучать английский язык и осваивать образцы поведения в обществе, Джейкобс и многие историки вслед за ним указывали на взаимосвязь кино и его этнически и культурно разнородной аудитории как на сценарий американизации и вертикальной мобильности. Они создавали впечатление, по словам Джудит Мейн, что
кинотеатры и никельодеоны были чем-то вроде подсобного помещения при Статуе Свободы. Что фильмы играли хорошо очерченную роль в «плавильном котле» общества, и иммигранты приходили на фильмы как пассивные субъекты, горящие желанием интегрироваться в мейнстрим американской жизни148.
Социальная тема. Репрезентация и адресацияОдно из наиболее спорных утверждений в исследовании Джейкобса сводится к тому, что социальная функция кино может выражаться в фильмах на уровне содержания и сюжета.
Первые американские художественные фильмы, – пишет Джейкобс, – стали популярными (больше, чем импортные сказки и волшебные фантазии), потому что их сюжеты брались из американской жизни» и они отражали характеры, конфликты, среду, которые были знакомы «как самим создателям, так и аудитории».
Этот тренд продолжается, считает он, с 1908 по 1914 год, хотя фильмы тогда были «проповедями», так как содержали сентиментальные сюжеты и моралистические финалы. Вместе с тем,
поднимая такие вопросы, как бедность, преступность, алкоголизм, коррупция, противоречия труда и капитала, признавая реальное положение этнических меньшинств и иллюстрируя американские ценности, эти фильмы отражали современную реальность и заставляли аудиторию размышлять о ней.
Они были полны идеями «анализировать мир работающего человека»149.
Это утверждение (ставшее общим местом) видится проблематичным применительно к периоду, предшествующему никельодеонам, когда кино переросло границу рабочих районов. Как я уже отмечала, ранние фильмы не занимались репрезентацией социальной реальности, не говоря уж о приучении иммигрантов к американскому образу жизни. Некоторые фильмы могли выполнять эти функции («Жизнь американского пожарного», «Большое ограбление поезда» или «Клептоманка» Портера), но утверждение Джейкобса не соответствует интернациональному характеру раннего кино и общему разнообразию жанров – комедий и фильмов с погонями, трюковых фильмов, бытовых зарисовок, новостных сюжетов. Эти фильмы еще не обслуживали интересы рабочего класса – скорее они адресовались более широкой, вертикально мобильной клиентуре коммерческих развлечений. Что же касается социального происхождения ранних кинематографистов, общность между производителями и аудиторией можно обсуждать только на более поздней стадии, в частности, с появлением еврейских продюсеров-иммигрантов, которые бросили вызов «Тресту Эдисона» (это Карл Леммле, Уильям Фокс и Адольф Цукер), но даже тогда влияние этой связи на практику кинопроизводства все-таки носило более сложный характер150.