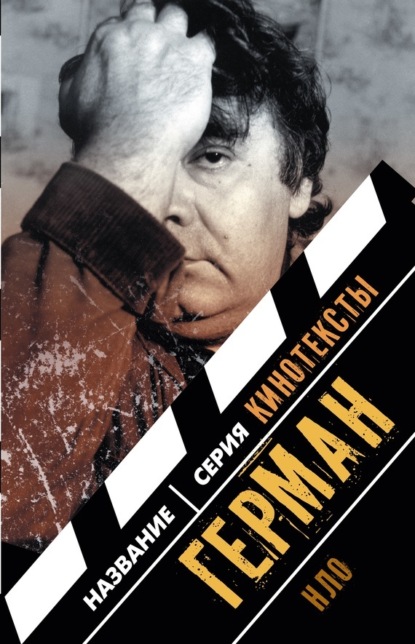Полная версия
Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино

Мириам Хансен
Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино
Кинотексты
Мириам Хансен
Вавилон и вавилонское столпотворение
Зритель в американском немом кино
Новое литературное обозрение
Москва
2023
УДК 791.073
ББК 85.347.3(0)-009
Х19
Редактор серии Ян Левченко
Перевод с английского Н. Цыркун
Мириам Хансен
Вавилон и вавилонское столпотворение: Зритель в американском немом кино / Мириам Хансен. – М.: Новое литературное обозрение, 2023. – (Серия «Кинотексты»).
С момента своего возникновения кинематограф формировался как новая публичная сфера, отражающая важные социальные сдвиги рубежа веков, которые проявлялись не только в экранных произведениях, но и в зрительских практиках. Книга профессора университета Чикаго Мириам Хансен (1949–2011) исследует тесную связь между становлением аудитории раннего американского кино и трансформацией деловой и частной жизни. В первой части исследования автор, используя вынесенную в заглавие метафору Вавилона, показывает, как кино в процессе создания «зрительства» решало задачу интеграции этнически, социально и гендерно разнородных групп в единую культуру потребления. Вторая часть посвящена подробному анализу фильма Гриффита «Нетерпимость», с которого принято вести отсчет современным взаимоотношениям между фильмом и зрителем. В третьей части автор обращается к феномену кинозвезды на примере Родольфо Валентино, анализируя его культ в контексте коммерческих интересов Голливуда и новой феминной субкультуры.
ISBN 978-5-4448-2339-6
Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film by Miriam Hansen
Copyright © 1991 by the President and Fellows of Harvard College
Published by arrangement with Harvard University Press
© Н. Цыркун, перевод с английского, 2023
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2023
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023
Посвящается Артуру И. и Руфь Брату
От автора
Эта книга создавалась в разных местах и, соответственно, обязана своим появлением многим институтам, коллегам и друзьям. Первые наброски и очерки были написаны в 1981–1982 годах во время моего пребывания в Центре гуманитарных исследований Уитни Йельского университета, где мне посчастливилось удостоиться критических комментариев Питера Брукса, Джона Холландера и моего коллеги по журналу Film Studies Доналда Крафтона. Вплотную я занялась написанием книги в 1985–1986 годах благодаря стипендии Фонда Эндрю Меллона в Гарвардском университете. В то время многие помогали мне выработать более четкое представление о проекте. Я особенно благодарна Дэниелу Аарону, Кэтрин Линдберг, Альфреду Гуццетти, Ричарду Аллену и Инес Хеджес за беседы, стимулирующие научную мысль, а также за чтение нарождающейся рукописи.
Значительную поддержку оказал мне Университет Ратгерса (Нью-Джерси). Там я получила несколько факультетских грантов, включая стипендию в Центре критического анализа современной культуры в 1988–1989 годах. Хочу поблагодарить за ценные суждения и открытие новых перспектив видения группу стипендиатов Китайского центра культуры и коммуникации, в частности Джексона Лирса, Линду Церилли и директора Джорджа Ливайна. Благодарю также моих друзей и коллег на факультете английского языка и других факультетах, которые одаривали меня идеями, предложениями и критическими замечаниями: Ричарда Пуарье, Уильяма Уоллинга, Алана Уильямса, И. Энн Каплан, Сэнди Флиттерман-Льюис, Викторию де Грациа и прежде всего Эмили Бартелс.
Я очень много почерпнула благодаря участию в семинаре по кино и междисциплинарной интерпретации Колумбийского университета. На этом семинаре, проходившем раз в месяц в Музее современного искусства, встречалось, наверное, одно из самых замечательных сообществ историков раннего кино в нашей стране, среди них – Эйлин Боусер, Чарльз Массер, Том Ганнинг, Роберт Склар, Джанет Стейгер, Роберт Пирсон, Уильям Уриччьо и Ричард Козарски. Хочу также выразить свою признательность отделу кино музея, особенно Питеру Уильямсону за ценную информацию о реконструкции «Нетерпимости».
В течение ряда лет друзья оказывали мне интеллектуальную и эмоциональную поддержку, комментировали и обогащали мой текст. Я особенно благодарна Хайде Шлупманн, Гертруде Кох, Карстен Витте, Хауке Брункхорст, К. Д. Вольфу, Александру Клюге и Берндту Остендорфу и Мартину Кристандлеру, с которым мы работали над статьей о «Нетерпимости» в 1974 году. По эту сторону Атлантики я очень обязана Эрику Рентшлеру, Филипу Розену, Мэри Энн Доан, Энни Фридберг, Линн Кирби, Патрису Петро, Серафине Батрик, Элис Каплан, Джейн Гейнс, Чарльзу Массеру, Ангусу Флетчеру и Гарольду Блуму, чьи советы и воодушевляющая поддержка помогли этой книге обрести нынешний вид.
Линдсей Уотерс растил эту книгу, и его вера в нее не ослабевала. Энн Луиза Коффин МакЛафлин редактировала рукопись с чуткой строгостью и неподдельным интересом. Благодарю также Джойс Есионовски за оформление и Кристин Гледхилл за иллюстрации и редакторскую правку всего, что касается Рудольфа Валентино. Синтия Шнайберг проделала огромную работу по чистке последних замечаний и подготовке рукописи к печати. И, наконец, огромное спасибо Тому Ганнингу, который читал эту рукопись на различных стадиях готовности и благородно делился со мной идеями, опытом и страстью к раннему кино.
Первая версия 12‐й главы была опубликована в Cinema Journal. 1986. Vol. 25. № 4 и часть 8‐й и 10‐й глав – в The South Atlantic Quarterly. 1989. Vol. 88. № 2.
Введение. Зрительство в кинематографе и публичная жизнь
Премьера фильма «Бой Корбетта и Фитцсиммонса» (The Corbet – Fitzsimmons Fight), «иллюстрация» студией «Верископ» (Veriscope) боксерского поединка бойцов в тяжелом весе, состоялась в нью-йоркской Академии музыки в мае – июне 1897 года. В дальнейшем фильм демонстрировался в ряде крупных городов на протяжении многих недель. Фильм продолжительностью 100 (!) минут в основном сопровождался комментариями экспертов и время от времени прерывался водевильными вставками, будучи одной из первых в истории полнометражных кинопрограмм.
Успех «Боя Корбетта и Фитцсиммонса» определялся не только необычной длительностью. Фильм привлек огромную аудиторию, стирая классовые границы. Обозреватели с удивлением отмечали, что программу активно посещали женщины: согласно одному источнику, в Чикаго женщины составили 60 процентов зрителей1. В отличие от «живых» поединков, которые посещали только мужчины, опосредованное экраном событие открыло женщинам доступ к зрелищу, от которого они традиционно были отлучены. Разумеется, это было не то же самое, что участие в реальном событии, – это все же была трансляция через визуальную образность, лишенную чувственного воздействия шума, запаха и возбуждения зрителей. И все же оно поставляло женщинам запретное зрелище полуобнаженных мужских тел в тесном и напористом физическом контакте.
Спустя почти три десятка лет, сразу после смерти Родольфа Валентино в августе 1926 года, миллионы американок пришли посмотреть «Сына шейха» – последний и наиболее откровенный фильм звезды. В одном из начальных эпизодов картины романтический герой попадает в плен к банде темнолицых разбойников, с него срывают одежду и подвешивают за руки к стене экзотических развалин, хлещут плеткой, издеваются и пытают. Хотя камера показывает, как злорадствуют разбойники, как наслаждаются они садистским зрелищем, нетрудно догадаться, для кого на самом деле оно было разыграно: для зрителя, сидящего перед экраном, точнее, для обожающей женщины-потребительницы.
Длительный показ обнаженного торса Валентино, доказавшего свой эффект в предыдущих лентах, таких как «Моран леди Летти» (Moran of the Lady Letty, 1922) и «Месье Бокар» (Monsieur Beaucaire, 1924), стал продуманным элементом представления звезды публике. Заслужив беспрецедентное поклонение почитательниц, Валентино превратился в эмблему одновременно либерализации и коммодификации сексуальности, существенным образом определивших развитие американской культуры потребления.
В двух этих примерах, как по отдельности, так и при сопоставлении, сконденсированы проблемы, которые я исследую в этой книге. Начать с того, что оба они обращены к зрителю – с его/ее особым типом восприятия, который составляет фундаментальную, сущностную категорию кинематографа. Как и другие средства визуальной репрезентации и формы зрелища, но в более систематизированной, исключительной форме кино сфокусировалось на создании смысла посредством взгляда, в процессе чувственной идентификации смотрящего и видимого.
Эти два примера обнаруживают существенное различие: в случае Валентино фильм предусматривает наличие смотрящего, точнее – смотрящую женщину с помощью специальных стратегий репрезентации и адресации, в то время как «Бой Корбетта и Фитцсиммонса» имеет более или менее случайный успех в женской аудитории. Когда, как и ради чего кино учитывает зрителя как текстуальный элемент и гипотетическую точку адресации фильмического дискурса? И когда такие стратегии кодифицированы, что происходит со зрителем как членом множественной социальной аудитории?2
Эти два примера говорят о зрительстве в отчетливых терминах гендера и сексуальности через визуальное удовольствие, эманирующее от показа тел противоположного пола. Однако поскольку тела, о которых в данном случае идет речь, мужские, а зритель – женщина, конфигурация видения и желания как будто нарушает табу, укоренившееся еще в патриархальной культуре, – запрет на активный женский взгляд, связанный в традиционном обществе с положением женщины как объектом смотрения. Это табу, по-разному действенное в высоком искусстве и массовых развлекательных жанрах, еще не приобрело устойчивости в фильмическом изображении, когда снимался «Бой Корбетта и Фитцсиммонса». Однако в фильмах Валентино оно служило как естественная подпитка для самосознания и чувственной трансгрессии. Как реагировало кино на активное посещение фильмов женщинами и как хождение в кино изменило паттерны жизни женщин?
Сопоставляя два примера, я предполагаю, что становление кинозрительства глубочайшим образом связано с изменениями в общественной сфере, особенно в гендерном аспекте деловой и частной жизни. Период истории американского кино, на котором я сосредоточиваюсь – примерно с рождения кинематографа в 1890‐х годах и вплоть до конца эпохи немого кино в 1920-х, – маркирует важный сдвиг в топографии общественной и приватной жизни, особенно в положении женщин и дискурсе сексуальности. Изменились не только стандарты, в соответствии с которыми определенные сферы опыта артикулировались публично, а другие оставались скрытыми в частной жизни, но и методы, с помощью которых проводились эти границы. Сам факт женского зрительства, например с точки зрения систематического освоения зарождавшейся культурой потребления такой категории, как женское желание, предполагает иное значение по отношению к сложившейся на тот момент традиции развлекательной культуры.
Рассмотрение вопроса о зрительстве в аспекте общественной жизни представляется особенно важным в свете развития киноведения и смежных дисциплин. Киноведы начали замечать, что мы находимся на пороге (если уже не прошли его) другого важного изменения публичной сферы. Новые электронные медиа, особенно рынок видео, трансформировали кинематограф как институт в самой его сути и сделали классического зрителя объектом ностальгического наблюдения (в духе фильма Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира»). Это не означает, что категория зрительства может быть размыта в пользу циничного самодовольства корпоративной коммуникации или наивной апологии всеобщности постмодернизма3.
Напротив, в наше время, когда кинозрительство все более сопрягается с другими способами потребления фильмов, можно более четко выявить его исторические и теоретические контуры: с одной стороны, специфически современные формы субъективности, определенные особым перцептивным порядком и как бы заданными временны́ми рамками, а с другой стороны – коллективную публичную форму восприятия, определенную контекстом старых традиций зрелища и способом его демонстрации.
Неслучайно, что на этом историческом перекрестке именно зрительство становится ключевым вопросом киноведческих дебатов, особенно начиная с середины 1970-х. Сдвиг фокуса с фильмического объекта и его структур к отношениям фильмов и зрителей, кино и аудитории стал главной движущей силой в развитии кинотеории, родившейся в ходе скрещения парадигм семиотики и психоанализа, исходящих из лингвистики. В трудах Кристиана Метца, Жана-Луи Бодри и других, на страницах британского журнала Screen, зритель концептуализировался в постструктуралистской категории субъекта (разработанной Лаканом и Альтюссером) и соответствующих ей понятиях идеологии. Исследуя предмет с точки зрения, прежде всего, марксизма и феминизма, теоретики кино разработали систематический анализ кино, в частности классического голливудского, в аспекте формирования зрительского желания с доминирующих идеологических позиций. Этот анализ был призван выявить, как кино одновременно мобилизует и маскирует фундаментальную разнородность субъекта, чтобы «создать внутри зрителя конформную иллюзию трансцендентального унифицированного субъекта»4.
Этот подход привел к двум перекрещивающимся типам исследования. Первый тип сосредоточен на концепции фильмического аппарата (совмещающей базовые технологические аспекты – диспозитив Альтюссера и метапсихологию Фрейда), где зритель фигурирует как трансцендентальный исчезающий элемент особого пространственного, перцептивного, социального порядка —
темноты кинозала и вытекающей отсюда изолированности отдельного зрителя, расположения проектора, источника образа за спиной зрителя – и эффекта реальности, создаваемой классическим художественным фильмом5.
Осмыслен ли аппарат по аналогии с платоновской пещерой или метафорой «зеркальной стадии», ренессансной перспективой или идеологическим самоустранением классических конвенций, он является общим условием рецепции кино, его технологически изменчивым, но идеологически постоянным параметром. Напротив, второй тип исследования концентрируется на последовательном вовлечении зрителя в текстуальную систему конкретного фильма. Опираясь на лингвистическое понятие «высказывания» (enunciation по Эмилю Бенвенисту), в киноведении разработаны методы текстуального анализа, который выясняет, какие пути понимания и осмысления предлагаются зрителю, как именно знание и власть, удовольствие и узнавание организуются в ходе восприятия киноповествования6.
В обоих случаях категорию зрителя нельзя смешивать с эмпирическим посетителем кинотеатра, элементом социальной аудитории. Семиотическая теория с психоаналитическим уклоном скорее имеет дело со зрителем как формой дискурса и эффектом означающих структур. Это, однако, не делает его/ее «предполагаемым» или «идеальным» читателем (в смысле рецептивной эстетики). Вместо этого акцент делается на конститутивном напряжении между зрителем, который конструируется фильмическим текстом, и социальным зрителем, от которого требуется занять определенное место, то есть на узнавании как процессе, который имеет хоть и временную, но вполне организованную структуру и совмещает эмпирических субъектов с дискурсом субъекта7.
Несмотря на теоретическое признание рецепции как доминирующего фактора по сравнению с текстуальными и идеологическими измерениями зрителя, он остается для кинотеории чем-то абстрактным, в конечном счете – пассивной сущностью. Может показаться, что субъект текстуального анализа (в той мере, в какой он/она вовлечены в гипотетическое чтение) играет более активную роль, чем субъект фильмического аппарата. Однако концепция высказывания (enunciation) предполагает, что зритель так или иначе обманывается, поскольку процесс означивания зависит от удовлетворения его/ее желания с помощью иллюзии, из‐за чего смотрящий субъект воображает себя артикулятором, соавтором фильмической фантазии.
Более того, как считает феминистская кинотеория от Лоры Малви до Мэри Энн Доан, классическое зрительство фундаментально обусловлено гендером, то есть структурно маскулинизировано, что делает традиционные способы идентификации проблематичными для зрительницы (как и любого зрителя, не являющегося белым гетеросексуальным мужчиной из среднего класса). Отсюда усиливающиеся попытки концептуализировать женщину как зрителя за пределами психоаналитического и семиотического фрейма, чтобы последовательно включать культурно обусловленные и исторически изменчивые аспекты рецепции. В результате вопрос женского зрительства стал главным импульсом для противопоставления кинотеории «естественным» формам рецепции (например, удовлетворению «желания» зрительниц через потребление кинозвезд и особых жанров) – иными словами, для принятия противоречий, которые кинотеория выявляет и постулирует8.
В том же десятилетии, когда кинотеория выдвигалась на авансцену теоретических дебатов, в определенном смысле конституируя себя как движение, новый дискурс, – история кино тоже оторвалась от своего дисциплинарного прошлого, переформулировав всю область исследования. Историки кино, разочарованные традиционными обзорами изобретений пионеров и великих произведений киноискусства, нацелились на ревизию стандартных нарративов – в частности, американского кино – на основе детального эмпирического изучения. Так же, как кинотеория, новая историография обратилась к примату фильмического объекта канонизированных произведений и сосредоточила внимание на кино как экономической и социальной институции, на отношениях между фильмической практикой и развитием технологии, организацией индустрии и практикой демонстрации. Зритель входит в эти исследования как потребитель, член демографически разнородной аудитории. Согласно Роберту Аллену и Дугласу Гомери, даже понятие социально и исторически обусловленной аудитории уже является
абстракцией, порожденной исследователем, поскольку неструктурированная группа, к которой мы обращаемся как к киноаудитории, постоянно конституируется, распадается и реконструируется с каждым отдельным опытом посещения кино9.
Это утверждение (разделяемое не только Алленом и Гомери) может показаться сильным преувеличением эмпирического опыта, но оно указывает на добровольно взятое на себя обязательство новой истории кино учитывать социокультурную динамику потребления кино, дискурсов опыта и идеологии. Похоже, что мы сталкиваемся с разрывом между зрителем как термином синематического дискурса и эмпирическим посетителем кинотеатров в его/ее демографической сопряженности. Встает вопрос: можно ли вообще примирить эти уровни исследования, можно ли и каким образом совместить эти методологии?
Нет сомнений, что теоретические концепты зрительства должны быть историзированы. Только тогда мы сможем включить в них эмпирические компоненты рецепции. Точно так же ориентированная на рецепцию история кино не может быть написана без теории, концептуализирующей возможные отношения между фильмами и зрителями.
В числе многочисленных попыток преодолеть разрыв между теоретическим и историко-эмпирическим подходами в исследованиях следует назвать опыт обращения к когнитивной психологии, который совмещается, как в работе Дэвида Бордуэлла, с проекцией на историческую поэтику кино10. Здесь, пожалуй, в еще большей степени, чем в психоаналитически-семиотической теории, зритель выступает прежде всего как функция означающего, конкретно – стратегий фильмической наррации. Однако, настаивает Бордуэлл, зритель есть нечто большее, нежели пассивная жертва идеологического заговора. Зритель – активный участник нарратива, «гипотетическая сущность, производящая действия, релевантные конструированию сюжета из фильмической репрезентации». Снабженный «разного рода конкретным знанием», «опыт зрителя склеивается текстом в соответствии с интерсубъективными протоколами, которые могут меняться».
Эта концепция как будто бы включает историческое измерение по двум пунктам: довольно туманной отсылкой к «разного рода конкретному знанию» и «интерсубъективным протоколам», которые могут изменяться в соответствии с разными парадигмами и нормами наррации, такими как классические голливудские образцы, арт-кино или различные типы модернистского кино, причем каждая парадигма, в свою очередь, гибко изменчива в отдельных многочисленных компонентах, а в случае модернистских типов повествования особо связана с базовой «историчностью всех элементов условий просмотра»11.
Что за историю можно извлечь из сетей когнитивной психологии как модели, которая в значительной мере базируется на принятии человеческих, если не сказать биологических, универсалий? (Тот же вопрос, конечно, можно адресовать и психоанализу.) Вероятно, немаловажно и то, что когнитивистский подход, ограничивающий зрительскую активность одними только (до)сознательными ментальными процессами, тщательно избегает рассмотрения конкурирующей зоны сексуальности и половых различий. Однако равно проблематично и то, что напряжение между текстуально предписанным и эмпирическим зрителем как будто полностью испаряется – в стопроцентно успешном представлении перцептивные операции, ожидаемые от зрителя, следует квалифицировать как присущие обоим. Если зритель существует только как формальная функция фильмического адресата, где она заканчивается у женской аудитории «Боя Корбетта и Фитцсиммонса»? И как мы различаем исторические акты рецепции и анализ нарративных ключей, который проделывает современная критика?
То, что исчезает вместе с напряжением между текстуально предписанным и эмпирическим зрителем, является не просто совмещением признаков индивидуальных актов рецепции, но, скорее, герменевтической констелляцией, в которой исторический зритель придает смысл воспринимаемому в зависимости от собственной интерпретации фильмического нарратива12. Это вопрос не столько «множества видов конкретного знания», которое мобилизуется для рецепции определенных фильмов, но неспецифически социального горизонта понимания, которое формирует зрительскую интерпретацию. Этот горизонт представляет собой не гомогенное хранилище интертекстуального знания, а конкурирующее поле множественных позиций и конфликтующих интересов, определяемого (но не обязательно ограничиваемого) условиями классовой принадлежности, расы, пола и сексуальной ориентации зрителя.
Все подходы, концептуализирующие зрителя как функцию – или следствие – закрытой, пусть и гибкой системы, будь то формальные коды наррации или предписания идеологии, лишены общественного измерения синематической рецепции. Это публичное измерение отличается как от текстуальных, так и от социальных детерминант зрительства, поскольку подразумевает тот момент, в котором рецепция зрителя может обрести силу, получить импульс формирования реакций, необязательно ожидаемых в процессе создания фильма. Такие реакции могут кристаллизироваться вокруг определенных фильмов, дискурса звезд или способов репрезентации, но они не идентичны структурным элементам. Хотя реакции всегда случайны и подвержены бесконечной – индустриальной, идеологической – апроприации, общественное измерение синематической институции обусловливает потенциально автономную динамику, которая даже такие феномены, как культ Валентино, подпитывает чем-то большим, нежели зрелищем, всецело контролирующим потребителя.
В этой книге я рассматриваю вопрос зрительства с точки зрения публичной сферы – критического понятия, которое само по себе является исторически изменчивой категорией. С учетом пробелов, возникающих в результате усиливающейся специализации внутри киноведения, концепт публичной сферы предлагает теоретическую матрицу, которая сосредоточивает в себе разные уровни исследования и методологии. На одном уровне кино конституирует собственную публичную сферу, определенную особыми отношениями репрезентации и рецепции, зависящими от процессов, специфичных для кино как институции, то есть от неравномерного развития способов производства, дистрибуции и демонстрации в соответствии со стилями конкретных фильмов. В то же время кино пересекается и взаимодействует с другими формами публичной жизни, относящимися к социальной и культурной истории. В обоих случаях вопрос заключается в том, какой из дискурсов опыта будет артикулирован публично, а какой останется в области частной жизни; как прочерчены эти контуры, для кого, кем и в чьих интересах; как публика в качестве коллективной и интерсубъективной зоны конституируется и конституирует себя в определенных условиях и обстоятельствах.
Идея «публичности» – и сопутствующее ей различение публичного и приватного – имеет длительную историю, в ходе которой сложились разнообразные традиции общественной и политической мысли, например, в американской традиции – силами таких авторов, как Джон Дьюи, Чарльз Райт Миллс, Ханна Арендт и Ричард Сеннет. Ближе к нашему времени это стало постоянной темой социологии и феминистской истории, особенно в исследованиях массовой и потребительской культуры13. Хотя я опираюсь на некоторые из этих работ, прежде всего я ориентируюсь на обсуждение публичной сферы в Германии, инициированное публикацией в 1962 году поворотной книги Юргена Хабермаса14.