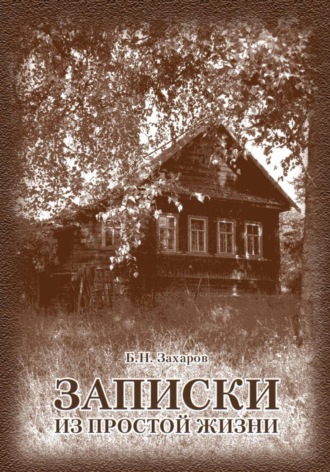
Полная версия
Записки из простой жизни
Самогоноварение в СССР на законодательном уровне было категорически запрещено и наказывалось сроком в три и более лет. Поэтому заниматься этим «бизнесом» приходилось скрытно, используя простейшие аппараты. Моя двоюродная тётя (в городских условиях) использовала для этого производства набор кастрюль. Полученный экстракт она пропускала через самопальный фильтр из марли, ваты и древесного угля и настаивала на лимонных корках и разных ягодах. Но такого в деревнях не делали.
Боязнь быть строго наказанными вынуждала деревенских жителей не доводить дело до самогоноварения, а употреблять непосредственно брагу, в которой обычно содержится большое количество дрожжей, что крайне вредно для желудка.
В наших краях начавшаяся в 1933 году полная, сплошная коллективизация, когда все хутора разорили, закончилась к 1935 году. Последним нескольким хуторянам, в том числе моему деду Михаилу, в 1939 году было предписано: в 24 часа разобрать дом на брёвна и начать перевозить все постройки и всё хозяйство в деревню. В противном случае всё подожгли бы. Вот так хутора объединили в социалистические деревни. Со времён столыпинской реформы, непосильным, просто лошадиным трудом крестьян, даже наша скудная северная земля была приведена в высоко плодоносящее состояние. На своих хуторских полях люди собирали с гектара по 16-19 центнеров ржи или пшеницы. Иными словами, хочу сказать, что добиваться в колхозах неплохих урожаев и неплохой производительности труда первые 20-25 лет их существования, можно было за счёт предыдущей подготовленности полей и самого отношения крестьянства к своему труду.
Почему колхозная система довольно долго продержалась в сельской жизни. Моё мнение на этот счёт следующее. К 1913 году в России сложилась добротная крестьянская жизнь. В результате демократических аспектов даже в сельской жизни, сельское хозяйство достигло значительных успехов. Нищими или полунищими в деревнях и на хуторах были семьи, где не хотели трудиться. Кулаки (вернее зажиточные крестьянские семейства) и середняки появлялись из повседневного изнуряющего труда всей семьи. Поэтому даже Первая мировая война, Гражданская война, продразверстки, раскулачивание и годы вплоть до 1930, не могли разучить крестьян работать. Худо ли – хорошо ли, но деревня продолжала себя и город кормить. В деревнях было много народа, крестьянские семьи ещё не рассыпались на осколки.
Сплошная коллективизация крестьянства, выдуманная в еврейских головах, до начала Великой Отечественной войны и около 20-ти лет после её окончания, как я уже отмечал, не смогла отучить крестьян от веками выработанный привычки трудиться на земле так, как следует на ней трудиться. В ведении сельскохозяйственных работ соблюдался строгий порядок, учитывались накопленные навыки и опыт. В землепользовании применялась трёхгодичная травопольная система, при которой каждый участок пашни использовался в последовательности: сначала выдавали травяную смесь (клевер, вика и др.), которая на данном участке росла не более трёх лет. Потом этот участок распахивали и высевали озимую рожь, как правило, только один раз. После сбора урожая ржи участок не распаханным оставляли под снег. В следующее лето на нём выращивали какую-либо однолетнюю культуру: пшеницу, ячмень, овёс, горох, лён, картофель, капусту, турнепс и др. На каждом поле травяную смесь высевали не более, чем через пять лет. Первые десять послевоенных лет в деревне содержалась конюшня на 12 лошадей, что позволяло вспахивать всю пашню плугами. В старом кирпичном коровнике (бывшем барском) содержалось большое стадо дойных коров. После обмолота злаковых культур оставалось много соломы, которая шла в подстилку лошадям и коровам. Поэтому навоза (биологического удобрения) имелось более, чем достаточно на всю площадь полей. Это позволяло получать довольно высокие урожаи. В конце сороковых годов в колхозе в дополнение к стареньким фордзонам появилось несколько тракторов на гусеничном ходу. Несколько позднее колхоз приобрёл зерноуборочные комбайны.
Все семена злаковых культур засевались вручную. Мой дед Миша был большим мастером этой работы. Я ходил у него в постоянных помощниках. Происходило это так. На широком ремне перед грудью на уровне живота крепилось весьма вместительное лукошко из берёсты. В него насыпались семена. Намечалась ширина полосы, на которую сеятель мог забросить семена. Правой рукой (не глядя, т. е. на ощупь) дед набирал пясть семян, заносил руку вправо от себя и резким движением влево разбрасывал семена в пашню. Моя обязанность состояла в определении границы, до которой долетали брошенные рукой деда семена. Для этого, идучи вровень с дедом, я волок а собой на короткой верёвке метровой длины деревянную плашку, от которой оставался хорошо видимый след. Это и было границей для следующей засеваемой полосы. Когда появлялись всходы семян, поле оказывалось равномерно засеянным. Таким мастерством владели немногие деревенские мужики, но их было достаточно для засевания огромных полевых площадей. Дед регулярно после прорастания семян проверял качество своей работы и был доволен, если не обнаруживал незасеянных прогалин. В этих случаях он говорил: «Смотри, как мы с тобой поработали».
В эти годы в сельскохозяйственных работах оставалось много ручного труда. Картофель сажали и выкапывали (выбирали) вручную из борозд распаханных плугом. Значительную часть зерновых культур женщины сжинали серпами (в дополнение к зернокосилкам). Особенно много труда затрачивалось на уборку урожая льна. Стебли вызревшего льна вручную вытаскивали (теребили) с корнями из земли. Вязали снопы и подвешивали их на вешела для просушки. С вешал снопы свозили в гумно для просушки головок семян и последующего обмолота вручную с помощью деревянных колотушек. После этого снопы вывозились на скошенные луга, развязывались и тонким слоем равными рядами расстилались по земле. Влага и солнце за две-три недели способствовали отделению поверхностного слоя от твердой внутренней основы стеблей. Снова вязали снопы, сушили в гумне и с помощью ручных мялок отделяли волокно от твёрдой сердцевины. После этого ручными щётками и волокна вычёсывались некачественные включения (отходы обработки льна). Качественное волокно и паклю (отходы) колхозы продавали специализированным заготовительным конторам. Костра – остатки стеблей льна после трепания и чесания – шла в отходы.
* * *
Что происходило в деревнях в первые десять послевоенных лет, об этом уже сказано. Но, несмотря на все негативные влияния на деревенский уклад жизни власть придержавших идиотов – советских руководителей, колхозы более-менее держались «на плаву», по моему мнению, до середины 60-х годов, а потом начался быстрый у них развал. В моей родной Хмелёвке происходило то же самое, что во всех 11-ти деревнях нашего колхоза. В 1965-ом году в деревне было 12 дворов, из них только в восьми домах постоянно жили 15 пожилых взрослых и четверо детей. Четыре дома использовались только в летнее время проживавшими в городах наследниками бывших владельцев. Рабочей силы стало явно мало для обработки существующих площадей полей. Руководство колхоза пыталось направлять в Хмелёвку колхозников из других бригад, в которых также излишек рабочей силы не наблюдался. В связи с этим приняли решение: всю существующую пашню засеять травяными смесями и отвести её под пастбище. Какое-то время содержали большое стадо дойных коров. Но ежедневная переправа больших количеств молока через Мсту для дальнейшей перевозки на молокозавод в Крестцы, особенно в ненастную погоду, вызывала дополнительные производственные расходы и ощутимые потери рабочего времени. По этой причине через три года дойное стадо заменили большим стадом молодняка. Каждый сезон телят после ледохода на пароме перевозили в Хмелёвку, а осенью обратно. Поскольку стадо не помещалось в существующий кирпичный скотный двор, решили держать его весь пастбищный сезон под открытым небом. Для этого рядом с деревней оборудовали загон. Лёжа часто на мокрой земле под дождём, большинство телят сильно простужались. Всё стадо «заходилось» в кашле. Телят было искренне жаль, особенно в холодные осенние ночи.
Скот съедал или вытаптывал траву, но он не прикасался к прораставшим веткам деревьев и кустов, которые постепенно уменьшали травяные площади. За прошедшие 50 лет вся пашня была полностью потеряна. Так было в сотнях тысяч деревень и сёл России. В это же время в Европе и Америке развивалось и совершенствовалось фермерское хозяйство. Опыт с холодами обернулся для русского народа непоправимой бедой, только за счёт продажи нефти и газа удалось избежать голода в стране.
В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века стали уходить в мир иной недобитые в войну мужики и женщины российских деревень, приученные к крестьянскому труду ещё до Октябрьской революции. Сельское население рождения после 1930-го уже было другим, с другой психологией, с другим отношением к земле. Попытки реанимировать сельское хозяйство переводом колхозов в совхозы, с принципиально другой системой оплаты труда (денежной, а не натуральной) положительного результата не смогли дать. Народ уже не верил в «светлое будущее».
Главный, основной принцип работы на земле был и остается один – лето зиму кормит. Иными словами, в весенне-летний – осенний период в условиях российской природы крестьяне должны, просто обязаны работать по 18-20 часов в сутки, урывая отдых для себя только в непогоду. Если, например, наступила сенокосная пора, то траву косят, сено сушат и убирают его в стога, скирды или под навесы из-за опасений дождя до тех пор, пока люди «не падают с ног» от усталости. В совхозах стали работать по 8 часов (как промышленные рабочие). Четыре часа вечера, на небе ни облачка, а народ бросает грабли и уходит домой от прекрасного сухого сена, которое просится, чтобы его убрали и валков в стога или копны. Вечером начинается дождь и длится более трёх суток. Сухое неубранное сено превращается в полугнилую труху. Так крестьяне не работали и не работают до сих пор везде, где есть порядок. Вот это изменившееся отношение людей к крестьянскому труда и полная хозяйственная безответственность руководителей всех рангов, воровство, пьянство, разгильдяйство и привели всю страну к полуголодному существованию. Люди до конца разуверились в коммунистических лозунгах, окончательно поняли и увидели воочию, что всенародное, значит никому не принадлежащее. В таких условиях урвать в свою пользу могут больше те, кто «примазался» к власти. Сельское население лишилось стержня жизни. Наступил и продолжается до сих пор полный духовный крах сельского жителя. Как результат, беспробудное и всеобщее пьянство, стремление украсть, а не заработать.
* * *
Не многие отваживались пойти супротив власти. У меня были два дяди Михаила, один, родной брат мамы, другой – двоюродный. Оба были членами ВКП(б). Двоюродный дядя Миша до ухода на войну работал мастером в леспромхозе и после возвращения с войны стал работать там же. В 1948 году началась очередная (Господи! Сколько их было, этих компаний – не перечесть) компания по усилению руководящих кадров в колхозе. Вызывают дядя Мишу в райком и просят стать председателем колхоза в деревнях за 30 км от его родной Усть-Волмы. Он не соглашается. Запугивают. Он не соглашается. Клади партийный билет на стол. Он кладёт и продолжает работать мастером в леспромхозе. Дело было весной. Огороды, в том числе и картошкой, уже были посажены. Через два-три дня после вызова в райком приходит дядя Миша вечером с работы и видит ужас, который надо пережить. Колхозный трактор по указанию первого секретаря района, сломав варварски весь забор огорода в 15 соток, перепахивает посадки вместе с кустами смородины, крыжовника и яблонями по диагонали. Всё – огорода нет. Нет для семьи картошки, овощей, ягод. Есть только жуткая, оцепеняющая обида на весь белый свет для лейтенанта Михаила Бурмистрова, командира артиллерийской батареи передовой пехотной части. Так поступить с человеком, о котором в центральной «Правде» была в годы войны опубликована подвальная статья с названием «Русский артиллерист Бурмистров», у которого на груди гимнастёрки не умещались все ордена и медали, полученные на передовой батарее, а не в тылу, так поступить могли только варвары, деспоты и враги рода человеческого.
Дядя Миша после этого случая всё чаще и чаще стал «прикладываться» к зелёному змию, а «набравшись» сидел и тихо (я никогда в таких случаях не слышал не единого звука) плакал. Страшно видеть молча плачущего мужчину. Иногда он поднимал глаза и говорил: «Бронислав, слушай.
Я – Мужик.
Вы меня понимаете?
Выбирайте в Советы людей
Так, как зятя себе выбираете».
Я никогда не встречал и не встречу в своей жизни человека, который всего Лермонтов и Некрасова знал наизусть. Это не преувеличение, а это правда, ибо всё это я с пристрастием проверял. Умер дядя Миша, когда ему не исполнилось 56 лет.
Крёстный мой, тоже дядя Миша, по профессии – высококвалифицированный ветеринарный врач, хотя и имел только среднее специальное образование. Любую скотину любил до самозабвения и животные это хорошо понимали. Всю войну прошёл с кавалерийскими частями. Был очень сильно контужен и ранен в ногу, осколком от снаряда ему раздробило пятку. Ногу сохрани, но он сильно прихрамывал. От контузии остались сильные головные боли. Был он чрезвычайно добрым, мягким, покладистым и в общем слабохарактерным человеком. Помыкала им до самой его смерти жена и все кому не лень. Его также вызвали в райком, предложили должность председателя колхоза, припугнули изъятием партбилета, и он быстренько согласился. Мучился он в этой должности в трёх разных колхозах (по каким причинам его переводили из колхоза в колхоз – не знаю) до самой своей смерти. Будучи честнейшим человеком, воровать он не мог, как большинство председателей колхозов, которые с середины 60-х годов быстрыми темпами стали превращаться в помещиков, практически с неограниченной властью. Жили они и властвовали в своё удовольствие. То, что все колхозы, несмотря на огромные государственные дотации, катились вниз, ни одного председателя не беспокоило.
* * *
Работы мамы в колхозе продолжалась не более одиннадцати месяцев. Наличие на территории Усть-Волмского сельсовета большого количества воинских частей вынудило значительно увеличить выпечку хлеба обычным ручным способом. Пришлось увеличить число пекарей. Маму, как опытного специалиста в этом деле, приняли на работу в хлебопекарне. Через год она стала заведующей, где и проработала до 1948 года. Статус служащей позволил иметь в семье четыре ежемесячные карточки на хлеб, некоторые продукты (сахар, соль, растительное масло и т. д.), а также на хозяйственные товары (мыло, спички, керосин и другое). Это для семьи стало большой поддержкой. Колхозники этого ничего не имели.
К концу 1948 года руководство сельского потребительского общества (кооперации) сильно проворовалось, и после очередной ревизии было или уволено или отправлено в тюрьму. В работе хлебопекарни также шли недочёты, которые заключались в том, что мама не совсем дозволенными способами через хлебопекарню взаимообразно поддерживала проворовавшихся продавцов магазинов. Было предложено уволиться по собственному желанию. Так мама оказалась работницей лесосплавной отрасли страны. Об этой отрасли послевоенной хозяйственной деятельности следует рассказать подробнее.
Отсутствие дорог, автотранспорта и речных барж в тот период заставили искать альтернативные способы доставки лесоматериалов к местам потребления. Приняли следующую схему транспортировки. Основная идея этой схемы заключалась в использовании течений рек в весеннее половодье. В осенне-зимний – весенний периоды на лесных делянках заготавливались брёвна, обычно длиной шесть метров, вывозились на лошадях к крутым склонам рек и речушек, укладывались в большие штабеля, с расположением брёвен параллельно берегу реки. Напротив каждого штабеля к реке укладывалось два ряда прокладок («слег») из гладких брёвен. Это обеспечивало лучшее скатывание брёвен в воду.
Скатку леса в воду начинали сразу после окончания ледохода, в весеннее половодье. Брёвна из малых рек течением выносились в большие реки, ближе к устью которых устраивались запони. С этой целью река полностью (от берега до берега) перекрывалась боровыми ограждениями (связанными между собой плотами), что обеспечивало остановку плывущих брёвен. Здесь брёвна сортировались по видам древесины и транспортёрами выкатывались на берег или пакетоформирующими приспособлениями связывались в пучки диаметром до четырёх метров. Пучки соединялись между собой в плоты и небольшими буксирами отводились непосредственно к лесозаводам или к местам их выгрузки на берег.
Безусловно, это не лучший способ доставки лесоматериалов от места их произрастания к местам потребления, но в те годы не имелось другой возможности: не было мощных автомобилей – лесовозов, не было дорог, не было достаточного количества трелёвочной техники и много другого. Однако эта схема таила в себе два крупных недостатка.
Первый заключался в том, что с падением половодья до обычного уровня воды в той или иной реке слишком много брёвен оставалось лежать по обоим берегам, особенно в береговых зарослях из ивы и других растений. После эти брёвна приходилось дополнительно вручную стаскивать в обмелевшие реки. С этой целью после окончательной скатки брёвен в воду, начиная с верховьем рек, шли бригады для зачистки от них обоих берегов. В народе эта работа называлась «хвостом». Сюда же следует отнести и следующий недостаток этих сплавных работ. Дело в том, что при быстром снижении уровня воды в реках (их обмелении) плывущие брёвна хаотично громоздились вновь подплывающие. Такие нагромождения брёвен («заломы») иногда достигали высоты в десять метров, и образовывалось их вдоль рек немалое количество. Мне много раз во время летних каникул приходилось работать на разборке «заломов». И могу точно сказать, что это тяжелейшая и опаснейшая работа. Обычно «заломы» разбирались подрядным методом, т. е. не по трудонормам, а по договорённости между мастером и бригадой. В этом случае лесосплавщики своих сил не берегли, работали «на ура».
Самым же главным даже не недостатком лесосплава, а преступлением перед природой являлось то, что заготовленные в холодное время брёвна не успевали просохнуть и полусырыми сбрасывались в воду. Находясь в воде, такие брёвна быстро дополнительно намокали, их удельный вес становился такового у воды, и плывущие брёвна опускались на дно рек. Картина была ужасающей, ибо под водой оказались миллионы и миллионы кубических метров неокорённой древесины. При гниении из коры выделяется синильная кислота, что для рыбного мира и водорослей несёт смертельный урон. Дно моей родной Мсты от Боровичей до деревни Плашкино (в низовье реки) выстлано «топляком» практически полностью. Из-за этого рыбы в реке становилось всё меньше и меньше.
* * *
Работая на лесосплаве, мама вынужденно постоянно отсутствовала дома. Работать приходилось на территории всей Новгородской области. Мы, её дети, находились на попечении бабушки Насти и деда Миши. После смерти бабушки весной 1953 года мама уже не могла не быть дома. Нужно было вести домашнее хозяйство. Первое время руководство лесосплавной конторы шло маме навстречу, не посылали её на работу в отдалённые от дома места. Она зарабатывала рубкой ивняка (очисткой берегов) рек Мсты и Волмы в зимнее время и холодное осенне-весеннее время. К этому времени лесосплав уже прекратили – все леса успели выпилить. Когда вода спадала, мама вместе со мной и моим братом Николаем доставали из воды «топляк». Суть дела заключалась в следующем. Надо было брёвна длиной шесть метров, наполовину вдавившиеся в песочное или илистое дно реки на глубине до полутора метров, вытянуть на берег, распилить на «шестёрку» («клячи» длиной один метр двадцать сантиметров) и выносить на берег так высоко, чтобы весеннее половодье не смогло смыть сложенные из «шестёрки» клетки высотой в полтора метра. Вот такой непосильной работой приходилось заниматься нашей маме и нам ,её малым детям, зарабатывая хлеб насущный. При этом количество клеток, которое мама должна была заготовить за рабочую неделю, строго нормировалось. Так что приходилось трудиться «в поте лица».
В это время заведующая хлебопекарней в Усть-Волме увольнялась на пенсию и стала уговаривать маму заменить её. Мама написала заявление с просьбой об увольнении по семейным обстоятельствам. Лесосплавная контора на увольнение не согласилась и, наоборот, предложила работу в ста километрах от дома. Мама, естественно, никуда не поехала. Ей трижды присылали повестки с требованием явиться на работу по указанному адресу, а потом подали в суд за неявку на работу. Судили. Присудили три года условно. Отняли трудовую книжку, что потом резко повлияло на размер пенсии. Издевательство над «простым советским человеком» не знало пределов в стране, «где так вольно дышал человек».
Несмотря на эту «условную» судимость, маму приняли на работу в хлебопекарню, где она проработала до 1968 года, до выхода на пенсию, будучи большим специалистом выпечки хлеба, качеством которого восхищалась вся округа. За 30 километров специально приезжали за хлебом Катьки-хлебопекарки.
Деревенский народ традиционно любил пироги. Но пшеничная мука в сельских магазинах была большой редкостью. Она отпускалась в ограниченных количествах только для выпечки белого хлеба. Мама, рискуя быть наказанной весьма сурово, сотням старух и не старух, отвешивала пшеничной муки непосредственно в хлебопекарне, оформляя эту «операцию», как продажу белого хлеба. Она любила всех людей.
Мама умерла в августе 2002 года, не дожив трёх месяцев до 89 лет. В 6 лет осталась без матери, в 29 лет с тремя детьми – без мужа. Работа в хлебопекарне приравнивается к работе горячих цехов. На сплаве этой маленькой женщине ростом 155 сантиметров приходилось иметь дело с неподъёмными брёвнами, что вряд ли можно отнести к женской работе. Пережила голодные скитания в Великую Отечественную войну. Вручную обрабатывала 20 соток огорода после выхода на пенсию в 55 лет в течение 30 лет – во всё это трудно поверить. Велика роль русской женщины в судьбах Родины, очень велика!
* * *
В школу я пошёл полных восьми лет первого сентября 1944 года. Мог идти в сентябре 1943 года, когда исполнилось семь лет. Но дед Миша, может быть и правильно, рассудил, что надо ещё на год повзрослеть и учёба якобы будет более осмысленной. Немаловажным фактором послужила невозможность купить обувь на осенне-весенний период из-за отсутствия денег. Даже в то военное время в школу в лаптях никто не ходил, стыдились. Ходили в разных «опорках», в обуви с взрослой ноги, но в лаптях не ходили. Зимой вопросов не было, выручали валенки. Если валенки намокнут, на печке их можно высушить.
Перед своим первым походом в школу не мог долго заснуть. Пугала неизвестность. Считать умел до ста, букв алфавита совершенно не знал. Но интуитивно понимал, что в жизни предстоят неизвестные мне изменения, в том числе научусь читать. Семилетняя (по тем временам неполная средняя) школа находилась в Усть-Волме, то есть за рекой Мстой, через которую требовалось утром и после окончания уроков переезжать на лодке. Перевозчиком работал дед Михей, который поставил условием одновременность перевозки всех хмелёвских школьников. Было нас всего девять человек, трое из них учились в шестом классе, остальные в младших. От дома до школы около двух километров. Выставленное дедом Михеем условие послужило причиной единственной, но очень скандальной моей стычки с ним. В это время учился в третьем классе. Запоздал, прибежал к перевозу, когда он уже перевёз всех школьников и возвратился к нашему берегу. Опоздать на уроки – для меня крушение мира. Стал упрашивать его перевезти меня, на что получил ответ: «Вот сейчас из сваренной картошки сделаю пюре и потом перевезу». Понимая безвыходность положения, в бешенстве схватил лежавший вблизи багор, направил его в живот деда Михея, угрожая проколоть его, если не буду немедленно перевезён. Угроза подействовала, настолько она была реальной и отчаянной. На урок не опоздал.
Школа располагалась в белокаменном двухэтажном здании екатерининских времён на высоком берегу реки Волма вблизи огромного старинного парка с вековыми дубами, липами и елями. Утверждали, что изначально поместье принадлежало знаменитому историку Татищеву. Перед революцией им владел некто Сметанин, простой мужик из Боровичей, разбогатевший на лесоторговле. Классы были светлыми и просторными, два из них – проходные. В каждом классе обучалось от 30 до 50 человек, в том числе несколько городских ребят, семьи которых в сельскую местность забросила война. После окончания войны многие из них уехали в места своей довоенной жизни. В эту школу ходили дети из других деревень на расстоянии от трёх до шести километров. Каждый день в дождь, снег и любую непогоду они проходили в ненадёжной обуви и плохой одёжке шесть или двенадцать километров. Некоторые просёлочные дороги на большие расстояния пролегали через глухой лес. Никто и никогда детей не сопровождал. Поэтому многие не выдерживали, заканчивали обучение после окончания четвёртого класса, что в те времена считалось начальным образованием. В этом случае советские власти к родителям не предъявляли никаких претензий. Это было в рамках действовавшего законодательства.

