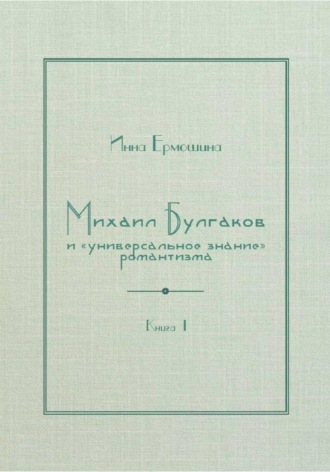
Полная версия
Михаил Булгаков и «универсальное знание» романтизма. Книга 1. Трагедия профессора Персикова
Во второй части романа «Пища богов», Г. Уэллс также обращается к теме стихийного использования открытия ученых в английской деревне, описав роль миссис Скилетт в нарушении многовекового деревенского уклада на английской земле, и эту роль отличает от роли булгаковского Рокка все та же частная, а не государственная инициатива в применении волшебного средства, ускоряющего рост. В целом, судьбы научных открытий при выходе их из лабораторий и особая роль индивидуальных и общественных реакций на научный поиск и его результаты рассматриваются Г.Уэллсом и М.Булгаковым одинаково серьезно, как и механизмы самих открытий; отличия в описании опытной стадии научного исследования, похоже, связаны с «национальным колоритом», который оба писателя стремились отобразить так же точно, как суть открытий и весь сопровождающий их научный антураж.
Частные реакции на Пищу богов в романе Г. Уэллса преобладают. Яркий пример – описанный Уэллсом конфликт ученого Бенсингтона и его кузины Джейн. Кузина запретила профессору испытывать его Пищу в домашней лаборатории: «Бенсингтон пытался объяснить ей, сколь огромно его открытие и какую пользу оно может принести, но безуспешно. Все это прекрасно, отвечала кузина Джейн, но нечего устраивать в доме грязь и беспорядок – ведь без этого не обойдется, а тогда он сам же первый будет недоволен» (121.198). Рассуждая об особой природе феномена под названием «кузина Джейн» как части «сложного сплетения ненужных мелочей», с ее «тайной, необъяснимой ролью» в делах повседневности, в том числе в научных делах (121.240), английский писатель типизирует частный случай и поднимается до глубоких обобщений, связанных с проблемой тенет общественной среды, влияющей на волю ученого и в целом на пути развития науки, именно таков смысл размышлений Бенсингтона о роли его кузины в научном процессе: «…он погрузился в туманные размышления о воле и безволии. Он думал о сложных сплетениях ненужных мелочей, из которых состоит повседневная жизнь, и о делах прекрасных и достойных, – так отрадно было бы посвятить себя им, но мешает какая-то непостижимая сила. Кузина Джейн? Да, кузина Джейн играет здесь какую-то тайную, необъяснимую роль. Почему мы должны есть, пить, спать, не жениться, где-то бывать, а где-то не бывать, и все это из уважения к кузине Джейн? Она превратилась в какой-то символ, оставаясь при этом непостижимой!..» (121.240).
Помимо кузины Джейн, запретившей проведение экспериментов с Пищей в научной лаборатории и определившей перенос исследований на опытную ферму, к внешним силам с необъяснимой ролью в процессе научного познания Уэллс отнес журналистов, знающих «все и даже больше» (121.258); они настолько значимы, что названы «современным Летописцем» (121.258). Роль в романе прессы, «Летописца», искажающего информацию об исследователях и их открытии, оказывается негативной. В этой связи Уэллс пишет о Бенсингтоне: «Вскоре наш ученый муж перестал обращать внимание на то, что пресса связывает его имя со всякими нелепыми выдумками, а в обзорах появляются статьи о Чудо-пище и о нем самом, написанные в чрезвычайно интимном тоне людьми, о которых он в жизни не слыхал. И если в те давние дни, когда он был безвестен и ничуть не знаменит, он втайне и мечтал о славе и ее радостях, то теперь эти иллюзии рассеялись, как дым» (121.260).
Еще одна сила, оказывающая влияние на практическое использование научного открытия героев романа Уэллса – доктор Уинклс, который вначале Пищу с гневом отверг, рассуждая о ее опасности, затем понял ее коммерческое значение и решил сам активно ею заняться: «…при этом у него был такой уверенный хозяйский вид, что даже Бенсингтону временами начинало казаться, будто Уинклс и есть первооткрыватель и изобретатель, хотя в газетах и пишут совсем другое» (121.263). Уинклс, желая попасть в помощники к создателям Пищи, пытался убедить их продавать ее детям королевских особ, а впоследствии создал собственную опытную ферму по испытанию Пищи, где, в силу собственной некомпетентности, ему удалось вывести только смертельно опасных для людей гигантских насекомых. Именно Уинклсу принадлежала инициатива переименовать чудесную субстанцию из «Пищи богов» в «Чудо-пищу», что, безусловно, профанировало ее подразумеваемую природу. В данном персонаже Уэллс, похоже, обозначил не названный, но ярко представленный художественными средствами «фактор Уинклса» – фактор невежественного и алчного исполнителя.
Внимание государства к научному изобретению в романе Г. Уэллса обозначено как очень поверхностное, особенно в начале: после появления информации о Пище и первых негативных проявлений ее использования упомянута некая статья, написанная государственным чиновником, в которой предлагалось «называть вещи своими именами и действовать немедленно (а как – неизвестно). В противном случае можно ожидать самых нежелательных последствий, – в переводе с газетного языка на общечеловеческий: появятся новые гигантские осы и уховертки. Вот уж поистине статья, достойная государственного мужа!» (121.232).
Более серьезная реакция государства на Пищу в романе появляется только после паники в провинции и столице из-за устрашающих и трагических последствий неумелого экспериментирования, причем во многом реакция эта была обусловлена общественными инициативами (например, осуществленным организационно предложением доктора Уинклса по созданию «Национального Общества Охраны Надлежащих Пропорций» (121.265).
Наконец, еще один персонаж – известный инженер-строитель Коссар, оказал огромную услугу профессорам, организовав активистов для борьбы с гигантскими крысами и осами, выросшими на опытной ферме из-за неопрятности четы Скилетт в использовании Пищи богов. Благодаря Коссару и его помощникам, тоже частным лицам, катастрофический ход эксперимента был остановлен.
В булгаковской повести нет фактора «кузины Джейн», «невежественного доктора» и гражданских активистов. Зато есть внимание к не затронутым Уэллсом тонкостям взаимоотношений в самой ученой среде. Когда Персиков «поймал» луч, его ассистент Иванов представлен в ситуации «раздавленности»: «…как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым…» (22.366). Противоборство амбиций в среде ученых, особенно если дело касается больших открытий, – эту тему, обойденную Уэллсом, Булгаков обозначил как насущную. В повести ассистент профессора Персикова, «с большой потугой» выдавливавший из себя слова признания величия открытия профессора (22.368), предложил свою помощь, «соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа» (22.367). После этого предложения произошла весьма показательная заминка, которая после обещания Персикова указать в своей работе, что камеры сооружены ассистентом, «тотчас разрешилась»: «С этого времени луч поглотил и Иванова» (22.367).
Журналисты в повести РЯ так же невежественны, как и их английские собратья в романе «Пища богов», – в своих оценках изобретения Персикова они перевирали суть открытия, называя его «лучом новой жизни» (22.370), «загадочным красным лучом» (22.372), «мировой загадкой» (22.373), профессора именовали «Певсиков» (22.369), приписывали ему насильственную смерть вместе с детишками: «..Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!..» (22.374). Наиболее колоритного журналиста – Бронского – Булгаков обул в «лакированные ботинки с носами, похожими на копыта» (22.370), похоже, увязывая искажения, производимые условным «Летописцем» современности, с вредительской сутью чертовщины; «Это какие-то черти, а не люди», – высказался о журналистах Персиков (22.377).
Беспокоящая булгаковского профессора «широкая публика» представлена в повести персонажами, назойливое внимание, жадность и недалекость которых сближают их с уэллсовским доктором Уинклсом: таков мошенник («Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов» (22.378)), жаждавший в интересах иностранного государства получить от профессора секрет луча и чертежи камер за взятку (22.379), такова интересная и пылкая вдова, возжелавшая выйти замуж за профессора и обещавшая ему квартиру из семи комнат (22.382).
Яркие эпизоды в повести, фиксирующие общественные реакции на большое научное изобретение, иллюстрируют булгаковское отображение общей с Уэллсом темы. Наиболее заметным его отличием является подчеркнутая зависимость профессора Персикова и его открытия от воли государства, что выразилось в последовательном описании гиперопеки и контроля, проявленных в тотальном любезном и всяческом содействии (22.391) государственных служб человеку науки. К Персикову даже были приставлены сотрудники ГПУ для защиты от «назойливых посетителей» (22.382,383). Чиновники после открытия луча важно и ласково осведомлялись, как у профессора идут дела, предлагали ему автомобиль (22.391), с «самым теплым вниманием» (22.391) занимались большими заказами для лаборатории Персикова, связываясь с заграницей через Комиссариат просвещения (22.367) и отдел животноводства при верховной комиссии (22.391).
Булгаковское раскрытие общей с Уэллсом темы особенностей научного познания рубежа XIX-XX вв. в той ее части, что связана с общественными реакциями на научную работу нового «класса» ученых, как и отмеченные ранее примеры булгаковской подачи вопросов узко зоологических (суть открытий и возможный ход научного эксперимента), свидетельствует не столько о плагиате, сколько о научно-литературном диалоге Булгакова с Уэллсом. В. Шкловский оказался и прав, и неправ: М. Булгаков действительно воспользовался уэллсовскими темой и сюжетом, но воспользовался не для «мелких дел». Опираясь на уэллсовский «материал» как исходный, М. Булгаков в повести РЯ представил собственный взгляд на бытование нового класса ученых-узких специалистов, одновременно могущественных и беззащитных перед лицом множества внешних факторов. В его версии судьбы «маститого ученого» и его научного открытия общими с Г. Уэллсом являются институциональный подход к теме и отображение реалий научного мирового процесса рубежа XIX-XX вв. Вводимые М. Булгаковым «новшества»: акцент в природе «средства», ускорявшего рост живых организмов, на «оптической» ее составляющей, подчеркивание уникальности профессора Персикова и его «глаза», а также отображение национального, российского, колорита на этапе практического внедрения научного открытия, свидетельствуют о таком же глубоком погружении российского писателя в тему, к которой обратился в своем романе Г. Уэллс и о развитии ее. Представленная Булгаковым «картина эпохи» отображает наиболее заметные тенденции и особенности научного процесса в мире и России в первые десятилетия XX в., а также типичные для России реакции на «новую науку» в обществе, среди которых особо выделена, в сравнении с английской «картиной» Уэллса, роль государства.
В финальном разрешении сюжетных коллизий в романе Г. Уэллса и повести М. Булгакова литературный диалог двух авторов приобретает характер спора, т.к. итог научно-экспериментальной части профессорских открытий и судьбы ученого различается в «Пище богов» и «Роковых яйцах» не просто деталями, а сущностно.
Г.Уэллс утверждая революционную роль открытия Пищи в деле переформатирования прежнего природного и общественного порядка, писал: «Наперекор предрассудкам, наперекор законам и уставам, наперекор упрямому консерватизму, что лежит в основе всех человеческих установлений, Пища богов, раз появившись на свет, осторожно, но неотвратимо шла своей дорогой» (121.295). Пища меняла облик мира и человечества, с ее появлением начиналась эра гигантизма (121.297). В описании Г. Уэллса общественность периодически бунтовала, противясь переменам в мире, страдая время от времени от появления гигантских крыс и ос, других существ и растений, появлявшихся там, где происходила неконтролируемая утечка Пищи, и государство в конце концов решило взять распространение чудодейственного порошка под свой строгий контроль, но и это не помогло. Мир раскололся на «гигантов», отведавших Пищу, и «пигмеев» – обычных людей. В финале романа два лагеря, великаны и пигмеи, готовились к решающему сражению друг с другом.
Невзирая на все препятствия, государственное и общественное противодействие, Пища продолжала менять мир, и судьбу ее распространения в своем романе Г. Уэллс показал как процесс, в котором, наряду со злом, крепли ростки нового, более совершенного мира и человека на Земле. Уэллс вложил в уста своих геров вдохновенные фразы об этом грядущем более совершенном мире.
В самом начале повествования об открытии Пищи, предваряя историю изобретения двух профессоров, английский писатель дал изначально высокую оценку их деятельности: «…двое скромных маленьких ученых создали и продолжают создавать нечто изумительное, необычайное, что сулит человечеству в грядущем невообразимое величие и мощь!» (121.192).
После первых опасных последствий использования Пищи ее создатель мистер Бенсингтон, по замечанию Г. Уэллса, «имел весьма смутное понятие о том, какую бочку с порохом взорвет брошенная им искра» (121.210). В момент гибели опытной фермы Бенсингтон, взирая на пожар, размышляет: "Как, бишь, там? <…> Латимер… сказал когда-то: «Мы зажгли сегодня в Англии такую свечу, которую никто на свете не в силах будет погасить…»" (121.257). «Да, поистине, всего заранее не предусмотришь», – это еще одна важная реплика Бенсингтона. «И ведь это вечная история… Мы, ученые… всегда трудимся ради результата теоретического, чисто теоретического. Но при этом подчас, сами того не желая, вызываем к жизни новые силы. Мы не вправе их подавлять, а никто другой этого сделать не может…» (121.233).
После первых смертей от чудовищ, порожденных Пищей, Бенсингтону мерещилось: «Где-то в облаках, за уродливыми происшествиями и горестями настоящего, виделся ему грядущий мир гигантов и все великое, что несет с собой будущее, – видение смутное и прекрасное, словно сказочный замок, внезапно сверкнувший на солнце далеко впереди…» (121.262).
В какой мере в уста Бенсингтона Уэллс вкладывал собственные чаяния? Известно, что он верил в то, что эволюционно человек еще не стабилизировался. В 1893 г. в статье «Человек миллионного года» он утверждал, что развитие человека продолжается и он неизбежно станет существом, совсем не похожим на человека XIX века и грядущего века XX184. Биографы английского писателя отмечали его понимание особой роли биологии, в серии опытов с конца XIX в. пытавшейся проникнуть в еще не раскрытый механизм эволюции185. Сочетание скрупулезной верности фактам с очень широким их осмыслением, со смелостью предположений – вот кредо писателя-ученого Г. Уэллса, почерпнувшего из курса дарвиновского ученика профессора Томаса Хаксли, который он прослушал, идеи гибкости и изменчивости живых форм, форм социальной жизни человека и веру в неизбежность прогрессивного совершенствования этих форм186.
Философское обобщение значения Пищи в истории человечества Г. Уэллс вложил в уста сына-великана профессора Редвуда: «…маленькие будут мешать большим, а большие – теснить маленьких. Это неизбежно… <…> Бесконечная борьба. Бесконечные раздоры. Такова жизнь. Великое и малое не могут найти общий язык. Но в каждом вновь родившемся человеке дремлет зерно величия, дремлет – и дожидается Пищи» (121.408). Не менее важны слова другого гиганта – сына инженера Коссара, сказанные в момент подготовки к решающей битве между гигантами и армией обыкновенных людей: «…мы бьемся не ради себя, но ради роста, ради движения вперед, а оно – вечно. И завтра, живые или мертвые, мы все равно победим, ибо через нас совершается движение вперед и выше. Таков закон развития духа на веки веков» (121.410).
Финал романа Г. Уэллса демонстрирует оптимизм и веру в то, что вторжение науки в тайны живой природы и в природу самого человека, сопровождаясь трудностями и опасностями, в итоге даст человечеству великую возможность создать новый, более совершенный, мир. Пища «нарушит пропорции? Разумеется. Изменит все на свете? Непременно. В конечном счете перевернет всю жизнь, судьбы человеческие. Ясно, как апельсин» (121.274), – вдохновенно утверждал инженер Коссар.
Финалом своего романа Г. Уэллс благословлял научные дерзновения своего поколения и, предсказывая сложные последствия вторжения познания в область регулирования жизнедеятельности организмов, все же выказывал оптимизм в отношении будущего этого вторжения. Он верил в то, что «дружное братство» и «радостная общность людей» (121.255) смогут одолеть любые трудности.
Тем интереснее понять, какова авторская и философская позиция М. Булгакова в теме вторжения человеческой науки в тайные механизмы живой природы.
Булгаковеды не раз отмечали подчеркнуто зловещий антураж персиковского изобретения в повести РЯ. Открытие профессора изначально характеризуется подчеркнуто негативно: «на горе республике» (22.362) заметил в окуляре микроскопа особый луч, усиливавший в разы «дух жизни» (22.365) Персиков. Картинка, которую он наблюдал в микроскопе, драматичная и пугающая: «В красной полосе… началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны <…> они… отличались какою-то особенной злобой и резвостью» (22.366). Так, в первых же описаниях, живые существа, испытавшие на себе влияние чудодейственного средства, ускорявшего их рост, охарактеризованы однозначно зловеще.
Открытие Персикова названо в повести началом «ужасающей катастрофы» (22.357); «Катастрофа» – название главы в повести о нашествии гадов на Москву (22.414). Это же слово – «катастрофа» – произносит агент ГПУ Полайтис, посланный проверить слухи о змеях в совхозе «Красный луч»: «Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа» (22.412).
Само открытие «луча жизни» произошло «злосчастным вечером» (22.357) и оценено Персиковым как «чудовищная случайность», которая сулит «черт знает, что такое»» (22.364). Чудовищным называет воздействие луча на живые организмы ассистент профессора Иванов после вытравливания ядами первых экспериментальных лягушек со злобным выражением на морде (22.368).
После открытия луча жизнь профессора Персикова приобрела «окраску странную, беспокойную и волнующую» (22.377), он совершенно измучился, а кроме того, у него начались нехорошие предчувствия и зловещие видения. После первого доклада на публике, представлявшего начальные результаты открытия, «Персикову стало смутно, тошновато… Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее…» (22.392).
Происходящее в персиковском кабинете зооинститута охарактеризовано автором повести как «черт знает что» (22.367), сторож Панкрат, всегда боявшийся Персикова как огня, после открытия луча испытывал по отношению к нему «мертвенный ужас» (22.367).
После того как заведующий совхозом «Красный луч» Рокк забрал камеры из лаборатории, кажется, уже сама природа противится грядущим событиям: «Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. <…> Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе» (22.396).
Позитивные последствия применения персиковского луча в повести РЯ имеют статус мечтаний-ожиданий, и в реальности не проявляются. Так, восхищается открытием Персикова его помощник Иванов, твердо верит в его пользу чиновник Рокк, а «широкая публика» и журналисты ждут от применения луча переворота в мировом животноводстве и быстрого восстановления поголовья кур в Советской республике. Ивановские «светлые ожидания» очень похожи на банальную человеческую зависть: «Владимир Ипатьевич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное… <…> Вы… вы приобретете такое имя… У меня кружится голова» (22.368). Невежда Рокк (22.401) слепо и безоговорочно верит в успех использования луча: «…это величайшей важности дело…» (22.395); «Ей-богу, выйдет, – убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, – ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят» (22.396). На деле же накануне появления из камер с персиковским лучом гигантских голых гадов, в совхозе собаки подняли невыносимый лай, а затем мучительнейший вой (22.404), птицы не просто замолчали, как бывает перед грозой, а «собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север» (22.405), умолкли лягушки, а совхозная уборщица Дуни передала Рокку слова мужиков: «А вы знаете, Александр Семенович… мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели» (22.404).
Претворение теории в практику в повести М. Булгакова происходит тотально по негативному сценарию: от самого Персикова звучат только предварительные предположения о природе и особенностях открытого нового явления, профессор уверен: «Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно!» (22.370). Не зная, чего ждать от луча, профессор очень осторожен в обращении с ним, и потому советует: «…руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия… а злокачественные они или нет, я, к сожалению, еще не могу установить» (22.395).
Отметим, что М. Булгаков, в отличие от Г. Уэллса, более последователен в определении профессионализма своего профессора. Персикова невозможно представить на месте профессора Редвуда, накормившего Пищей своего ребенка, – лишь полная утрата контроля над его «детищем» – лучом приводит в повести РЯ к катастрофе.
В целом, контрастов в истории Персикова больше, нежели в истории уэллсовского создателя Пищи богов – Бенсингтона. В сравнении с относительно мягким завершением судьбы уэллсовского профессора, который, испытав ярость толпы, все же остается в живых, «стушевывается» и уходит на покой, Булгаков безжалостен к своему герою-ученому. Персиков гибнет, растерзанный толпой, как «мировой злодей», который «распустил гадов» (22.424), гибнут верные ему Марья Степановна, сторож института Панкрат, разгромлена лаборатория, в клочья разнесены камера, террарии, стеклянные столы, перебиты лягушки, подожжен и сгорел зооинститут.
Ни о какой группе обычных граждан-активистов, объединившихся для ликвидации опасных последствий применения средства, ускорившего рост живых организмов, как в романе Уэллса, в повести Булгакова речи не идет. Вначале – и здесь Булгаков воспроизводит логику российского варианта борьбы с катастрофой, в которой первую роль играет государство, – после сообщений о змеях в Смоленской губернии туда отправлены два агента ГПУ. Агенты гибнут, и на борьбу со страшными чудовищами выдвигаются аэропланы с газом (22.417), отправляется «многотысячная, стрекочущая копытами по торцам, змея конной армии» (22.421), вооруженная боевыми газами, танками и аэропланами (22.423). Также начинается подготовка к эвакуации городов и ведению уличных боев.
Великое открытие профессора Персикова привело к великой катастрофе – под угрозой жизнь целой страны, гибнет автор открытия и весь его институт, ничто из доступных человеку земных сил не может остановить «нашествие пресмыкающихся» (22.423). Останавливает катастрофу у Булгакова чудо: в ночь с 19 на 20 августа «морозный бог на машине» (22.425), двухсуточный мороз, уничтожил всех гадов. «Страшная беда 28-го года» кончилась (22.425), причем, безвозвратно. Детали финала булгаковской повести: уничтоженные камеры и смерть Персикова, а также невозможность его ассистента вновь обнаружить луч, означали полную ликвидацию последствий эксперимента и невозможность его повторения.
Открытие булгаковского профессора, в отличие от уэллсовской Пищи богов, изначально оценено как «ужасное», в финале изничтожено и никак не может повлиять на ход дальнейшей жизни в республике и мире; никакой «новизны» оно не приносит. Более того, в повести жизнь подчеркнуто возвращается на круги своя: «…опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей… и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов…» (22.426). Появление в финале повести нового зоологического дворца важно: этот факт реабилитирует М. Булгакова от возможных обвинений в неуважении к научному поиску в свете тотальной ликвидации персиковских научных изысканий. Конечно же, и М. Булгаков с этим не спорит – невозможно остановить человеческое познание. Но там, где Г. Уэллс высказывает веру в высокое качество человеческого экспериментирования с живой материей и возможность прогресса, М. Булгаков демонстрирует великий скепсис, подчеркивая недостаточность знаний как экспериментатора, так и исполнителей для революционных, а точнее, эволюционных прорывов, и вводит фактор, превосходящий по силе все факторы внешних влияний на ученого – творческую силу высшего порядка, Бога.


