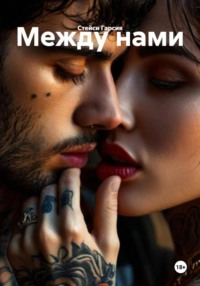Полная версия
Семь шагов навстречу
Он кивнул, и мы остались рядом в той тишине, где даже дыхание звучало, как отдельная нота. Слов было мало, но каждый жест говорил громко: его рука на моей щеке, тепло ладони, взгляд, который задерживался чуть дольше, чем требовала простая вежливость. Это было начало – не шумное, не заявленное вслух, а тихое, как шелест: двое пробуют идти рядом, осторожно обходя трещины прошлого.
– Пойдём, – сказал он негромко, будто приглашал не просто на кухню, а в продолжение того, что между нами возникло и ещё не имело названия. – Я помогу с посудой.
– Ладно, – ответила я, и в моём голосе был отблеск доверия, который я сама ещё не до конца понимала.
Мы отошли от окна, оставив позади ночной город и ту тихую, почти неощутимую нить прикосновения, которая теперь слегка вибрировала между нами.
***
Коридор факультета пах бумагой и старой краской – тот запах, который всегда говорит: «сюда приходят учиться, а не жить». Мы с Наей стояли у шкафчиков, перебирая чей-то общий план проекта и смеясь над её драматическими набросками к короткометражке. Ная жестикулировала так, как будто режиссёр уже находился в её руках: громко, с паузами для аплодисментов.
– И представь, – говорила она, – сцена, где главный герой приходит с пляжа и у него на коленях море. И тут крупный план на глаза – и мы все начинаем плакать.
– Так, – перебил я её внутренний голос, – только не добавляй туда глупую музыкальную драму. Мне уже снится, как кофемашина плачет от нашей съемки.
Мы смеялись, и в этом смехе было столько обычности, что мне даже казалось: можно на время забыть про ту тонкую смуту с утра. Я держала папку с распечатками, одна из страниц чуть выглядывала и всё ещё пахла кофе прошлой ночи.
Вдруг кто-то резко повернулся за углом – парень, высокий, шаг у него был быстрый и немного грубый. Он не посмотрел по сторонам и с такой силой врезался в меня, что папка выскользнула, листы полетели, а я сама потеряла равновесие и едва не рухнула, чувствуя, как меня отбрасывает назад удар столкновения.
– Эй! – вырвалось у меня, когда я ударилась о перила. Страница ускользнула и зацепилась за мои пальцы, и я вздрогнула.
Парень не извинился. Он лишь нахмурился, посмотрел на меня сверху вниз так, будто видел неприятную помеху в своём маршруте. В его голосе слышалась редкая смесь презрения и спешки:
– Смотри вперёд, дурочка, а то в следующий раз не отделаешься лёгким испугом.
Шепот разошёлся по коридору; несколько студентов обернулись, но большинство – заняты движением. Ная уже была рядом, хватала упавшие листы, её рука дрожала от злости больше, чем от страха.
– Что ты сказал? – холодно спросила она, поднимая голову так, что шея её выпрямилась, словно она снова обрела свой рост.
Парень фыркнул, словно от вкуса дешёвого вина:
– Никогда не видел, чтобы кто-то так неловко падал. Наверное, и рвотный рефлекс включился бы.
Мне захотелось ответить колкостью, но слова вязли в горле. Куда-то ушла та часть меня, что швыряла сатиру в ответ на оскорбление – и это пугало: я была уязвима, и это было заметно. Ная взглянула на меня так, будто спрашивала: «Ты в порядке?» и «Ты хочешь, чтобы я его отшвырнула?».
В этот момент в коридоре появился Зейн. Он будто материализовался: шаги уверенные, взгляд как будто сразу всё просчитал. Я не слышала, как он подошёл – просто ощутила перемену в воздухе. Как будто невидимая граница грубости исчезла, а мир вдруг включился на предельную громкость.
– Что здесь происходит? – его голос был ровный, но в нём слышалась сталь.
Парень скривился, как будто узнал в нём раздражающего знакомого:
– Ничего такого. Девчонка сама споткнулась. Я тут не задерживаюсь.
– Ты толкнул её, – сказал Зейн тихо. Не крик, не угроза – просто констатация факта. Но в этой констатации слышалось слово «не проходи мимо».
Я заметила, как в висках парня зашевелились вены, он сделал шаг вперёд, сжав губы в тонкую линию.
– И что? Ты – её рыцарь теперь? Отвали.
Зейн не двигался. Он посмотрел сначала на меня, потом на парня, и в его взгляде было быстрое, холодное переключение: от «не трожь её» к «я остановлю это». Его плечи натянулись, как тетива.
– Уймись, – сказал он тише и подошел ближе, и тогда я поняла, что слово «уймись» в его исполнении – не просьба, а команда.
Парень нахмурился, и на мгновение в его глазах промелькнула самоуверенность, сменившаяся раздражением. Он взялся за Зейна, словно собираясь толкнуть, но Зейн ловко перехватил его руку, провернул, и всё произошло стремительно: толчок, блокировка, удар – коридор будто превратился в миниатюрную арену.
Я не думала, что он способен на такое – не в этой стороне, где обычно слова летели острыми лезвиями. Здесь он был точен и беспощаден, как будто действовал по старой привычке, которую не обсуждают. Его движения были короткими, экономными: не чтобы показать силу, а чтобы остановить. Парень пытался сопротивляться, но Зейн оказался быстрее, жестче. Удары были не театральными – грубые, сырые, раздражающие; шум тел, скрип подошв, разлетевшиеся листы, всплеск адреналина.
Кто-то закричал: «Эй! Что здесь происходит?» – голос старшего преподавателя или охранника прорезал шум драки. Но сначала была только она, эта суматошная схватка. Я стояла, будто в замедленной киноленте, и в груди у меня билось странное сочетание чувств: страх, смешанный с неожиданной благодарностью.
В один момент парень отскочил, закашлялся и сплюнул кровь – нос, похоже. Пробормотал что-то вроде «я вызову…», махнул головой, словно этого было достаточно, чтобы уйти. Ноги вынесли его прочь, и он ретировался, ещё успевая бросать грозные лозунги: «Это не конец!». А по коридору уже разлетелся шепот: «Он дерётся…», «Зейн ударил…», «Что за беспредел?» – слова, которые висели в воздухе, тяжелые и возбуждающие.
Зейн стоял, тяжело дыша, кулак чуть дергался. В уголке губ блеснула тонкая яркая трещинка – кровь. Вдруг его лицо стало похожим на лицо ребёнка, которому досталось больше, чем он ожидал. Его взгляд встретился с моим; в нём скользило что-то одновременно извиняющееся и охраняющее.
– Всё нормально? – выдавила я, потому что в голосе надо было найти опору.
Он хмыкнул, словно пытаясь снять с себя значимость того, что произошло:
– Этого идиота больше тут не будет.
Охранник подошёл через минуту – или две, время растянулось, будто подчинялось чужому ритму. Сотрудники университета быстро окружили место, расспрашивая, кто что видел. Парень ушёл, оставив за собой резкий осадок слов, а тут же прозвучало: «Зейн, к заведующему в аудиторию, немедленно!» – голос был сух и отчётлив. Я поняла, что последствия будут не только синяками: его вызвали на чистку, на разбор полётов, без прикрас.
Я подошла к нему, чувствуя, как внутри дрожь смешивается с тревогой: хотелось накрыть его своей тенью, спросить, не больно ли, и одновременно стыдиться того, что перед чужой жестокостью я сама ощущаю слабость. Ная стояла рядом, уголки губ сжаты, готовая ринуться на защиту без лишних слов.
– Ты… – начала я, но слова путались.
Он отмахнулся рукой, и в этом движении было и раздражение, и желание не выглядеть ранимым:
– Ничего. Просто иди дальше, – сказал он, и голос его был суховат.
– Тебе нужна помощь? – спросила я, не отступая.
Он посмотрел на меня остро, как будто не понимал, зачем мне это:
– Я сам знаю, что делать. Иви, просто – отойди.
В этой фразе не было грубости как таковой, скорее отталкивающая броня. Я почувствовала, как во мне зашевелились противоречивые чувства: благодарность (он встал между мной и опасностью), тревога (он получил травму), и обида (он отталкивает, когда я хочу помочь). Это было одновременно странно и знакомо: он защищает, но закрывается после.
– Хорошо, – прошептала я, потому что спорить в коридоре, окружённом шепотом и взглядами, казалось глупым.
Его губа кровоточила, и даже когда он старался скрыть это – сжимая зубы, прищуривая глаза – я видела каждую каплю. Ная схватила меня за руку и тихо тянула:
– Пойдём, не трогай его сейчас, – в её голосе звучала смесь тревоги и заботы.
Я оглянулась назад: Зейн стоял в лёгкой суматохе, когда его отвели в сторону – кто-то из преподавателей говорил с ним спокойным, но твёрдым тоном. В его позе была усталость и ледяная решимость одновременно. Моё сердце было разорвано на кусочки – он защитил меня, и заплатил за это своим лицом . Мне хотелось сказать «спасибо» и «прости», хотелось дотронуться и убедиться, что он в норме, но на его лице было личное правило: не давать чужим видеть слабость.
Я вцепилась в свою папку чуть крепче, как будто она могла зафиксировать происходящее и вернуть его в какой-то порядок. И в это мгновение я поняла: он не только «мальчик с дерзкой улыбкой», не просто сосед, который может уснуть под басы. Он – человек, у которого есть тяжесть и грани, которые можно было раньше не замечать. И это пугало так же сильно, как и манило.
***
Я стою у выхода, и воздух вокруг меня кажется слишком большим – в нём ещё слышится эхо шагов, шёпоты, удаляющиеся голоса, но всё это как будто будто через плёнку. Сердце всё ещё бьётся в такт с чужим адреналином – тот звук, который не уходит сразу после драки. Я прислоняюсь к холодной стене, ладони ещё пахнут бумагой и кофе, а во рту остаётся металлический привкус от страха и оттого, что я не успела ничего толком понять.
Он появляется так, будто его вытащили из тени – шаги уверенные, но чуть скованные. Я вижу его профиль: губа опухшая, маленькая трещинка и засохшая кровь у края; под глазом синяк тёмный, как старые чернила. Его рубашка сдвинута, воротник помят – и всё это делает его одновременно уязвимым и каким-то ещё более непроницаемым.
Я делаю шаг вперёд, сама себя едва удерживая, потому что стоять сложа руки – это не про меня. Каждая клетка кричит: нужно что-то сделать, хоть слово, хоть движение, хоть взгляд, хоть прикосновение. И даже если он этого не хочет, даже если оттолкнёт, внутри меня бурлит желание быть рядом, быть нужной, хотя бы на секунду разделить боль, которую он так отчаянно прячет.
– Ты в порядке? – спрашиваю тихо, почти как ребёнок, потому что фраза «ты ранен» звучит слишком громко, слишком тяжело, и я не готова к такой громкости. Хочу просто услышать «да», хоть немного облегчить то, что горит в груди.
Он резко поворачивается ко мне, и я словно врезаюсь взглядом в холодный лёд, под которым дрожит усталость. В его глазах сталь, и эта сталь режет острее, чем сама разбитая губа или синяк на щеке. Сердце сжимается – от испуга, от тревоги, от того, что за этой жесткой броней скрывается кто-то, кому нельзя помочь, хотя так хочется. Я чувствую свою беспомощность, и она жжёт сильнее, чем любые удары.
– Не лезь, – говорит он коротко и твёрдо. – Это моё дело.
И в этом «не лезь» звучит не только резкость, но и холодная граница, которую он проводит между нами. Каждое слово бьёт по нервам, словно острое стекло: оно отталкивает мою руку, моё желание быть рядом, моё доверие. В груди сжимается комок – смесь знакомой боли и бессилия, желание помочь сталкивается с пониманием, что сегодня меня не пустят в его мир, каким бы близким я ни хотела быть. Это чувство тяжёлое, почти физическое, и слёзы уже подступают, но я сдерживаю их.
– Я просто хочу – начинаю я, делая шаг назад, – узнать, всё ли с тобой в порядке. Я могу чем-то помочь.
Его губы дергаются, но он не делает шаг назад – скорее, как будто выбирает самый короткий маршрут к отказу.
– Нет. – он отрезает, голос хриплый. – Не говори. Мне не нужна жалость. Не лезь.
В его «не лезь» слышится куда больше, чем простая грубость. Там целая оборонительная стена: «не входи», «это не для посторонних», «я сам разберусь». И я понимаю, что моя забота сталкивается с закрытой дверью. Это не из-за неблагодарности – скорее наоборот: благодарность здесь лишняя, она превращается в слабость, которой он боится.
Мне хочется рассмеяться от бессилия, но вместо смеха слова застревают в горле. В глазах появляется странная влажность – сначала горячая и одна, а потом предательская: слеза. Я не сдерживаю её. Это не драма ради драмы – это простая, острая обида: он защитил меня, а теперь отталкивает, когда я хочу ответить тем же.
– Почему ты всегда так? – выдыхает Ная рядом со мной, голос тихий, но в нём слышна ярость и растерянность.
Он переводит взгляд на Наю, потом снова на меня, и на его лице мелькает странная смесь раздражения и… чего-то почти похожего на сожаление. Но он выпрямляет плечи и делает шаг к выходу, словно хочет раствориться в прямой линии улицы, унося с собой часть напряжения.
– Я сам справлюсь, – повторяет он уже без обращения, и в этих словах слышится приказ и просьба одновременно.
Я инстинктивно тянусь к нему ещё раз, хочу коснуться губы, ощутить тепло кожи или просто прикоснуться. Его плечо встречает мою руку – не с силой, но с такой твёрдостью, что больнее любого удара. Он отстраняется, и кажется, будто с уходом уходит часть воздуха, оставляя только холодный щемящий вакуум.
– Не надо, Иви. – его голос теперь совсем другой – усталый, почти скользящий. – Просто оставь это.
Слёзы текут сами, без драмы, плотными солоноватыми струйками, оттого что несправедливость режет насквозь: он принимает удары на себя, а когда приходит момент уязвимости – сам закрывается. Я хочу пробить эту броню, прошептать туда «спроси меня», но он умудряется отдалять меня даже тогда, когда мне хочется быть рядом, держать его за руку, быть точкой опоры.
– Ты не можешь всё решать один, – шепчу я так тихо, что это, наверное, больше самой себе, чем ему. – Почему ты всегда делаешь это сам?
Он молчит, и в молчании слышится ответ, который не звучит словами: прошлое, привычка, самодостаточная жестокость – всё это определяет его поступки. Он поворачивается и уходит. Его шаги отдаются в моей груди эхом: сначала быстрые, потом всё дальше.
Первый настоящий рывок приходит внезапно: слёзы вырываются наружу, тяжёлые от обиды, бессилия и того парадоксального чувства, что Ангел Защиты умеет быть жестоким к тем, кого оберегает. Всхлип вырывается сам, короткий, режущий, и ломает мне дыхание, оставляя ощущение, будто внутри что-то треснуло.
Ная тут же рядом, её рука на моём плече – твёрдая, уверенная, как якорь в буре, и в этой простоте есть утешение.
– Дыши, – шепчет она, и голос её – как будто тёплая ладонь. – Сделай четыре вдоха. Вдох – два – три – четыре. Я с тобой.
Я стараюсь слушать её, потому что её голос – якорь. Вдыхаю, считаю, выдыхаю; тело медленно возвращается к работе, но слёзы на щеках ещё горячие.
– Почему он так? – спрашиваю я вслух, хотя знаю ответ, но хочется его услышать от кого-то другого.
– Он просто боится, – говорит Ная тихо, ровно, без лишних слов. – Боится, что случайно причинит тебе боль, и боится открыться для кого-то так, чтобы самому остаться уязвимым. Это его способ выжить, Иви. Может быть жестоко, но это… правда.
Я кладу голову ей на плечо, потому что это безопасно – она не требует объяснений, не пытается исправить всё за секунду. Её теплота медленно растворяет остроту обиды, оставляя грусть и осознание. Я злюсь, потому что хочу быть полезной, и мне больно, что он не позволяет этого. И вместе с тем я понимаю: он защищает не только себя, но и меня – таким странным, противоречивым способом.
– Он будет в порядке? – спрашиваю я, и в голосе слышится надежда и обвинение одновременно.
– Он справится, – отвечает Ная с твёрдостью, которая почти звучит как обещание. – Это всё временно. Давай вернёмся пойдем ко мне, попьём чаю, и ты расскажешь мне, как всё было – от начала до конца.
Я киваю и вытираю лицо рукавом. Слёзы уже не такие горячие; они оставляют на щеках солёные дорожки. Я не знаю, что будет дальше с Зейном, и это страшит. Но в этом страхе появляется и понимание: я могу быть рядом, не влезая в его бой, иногда позволять себе помогать – просто по-своему. И это маленькое обещание растёт внутри, тихое и упорное, как семечко, которое уже решило прорости.
Глава 8 – "Среди волн и теней"
Мы шли медленно – не потому что нужно было экономить время, а потому что хотелось, чтобы разговор сам успел расправиться. Вечерние улицы между домами были пусты, фонари тянули длинные полосы света по мокрому асфальту, а воздух пах слегка солью и углём от далёкого фудтрака. Ная шла рядом, иногда подталкивала меня плечом, как будто хотела сказать: «Говори, не прячься». В её сумке шуршали какие-то баночки – обязательный набор для вечерних «лечебных» сессий: корица, печенье, спасительная баночка варенья.
– Ну, рассказывай, – начала она сразу, как только мы свернули на тихую улочку. – Что там у тебя с этим твоим соседом-мистер «отвали»? Он и правда то тёплый, то как будто камень?
Я будто сглотнула всё, что не успела сказать раньше. Слова шли неровно, как камни в ботинках, пока я не нашла ритм.
– Смотря в какой день, – ответила я тихо. – Иногда он может сделать что-то такое милое и внимательное, что я потом целый час ловлю себя на том, что улыбаюсь сама себе. А иногда он – просто лед. Одна строчка «не лезь» – и как будто уходит тепло.
Ная остановилась, посмотрела на меня и, как будто проверяя маршрут, повторила вопрос иначе:
– То есть он может убрать ресничку с твоего лица и через час сказать, чтобы ты не связывалась с ним? Классика. И как ты с этим справляешься?
– Плохо, – выпалила я, и слово прозвучало так прямо, что Ная на миг замерла. – Иногда я хочу крикнуть «отвали» в ответ. А иногда – просто прилечь рядом и слушать, как он дышит. Это сумасшествие.
– То есть у тебя внутри – вечный хаос: «люблю-ненавижу» в формате мини-серии? – улыбнулась Ная, но в её тоне была искренняя забота. – Скажи честно: ты влюблена?
Вопрос повис над тротуаром, как лампа, высвечивая складки моей неуверенности. Я посмотрела на её лицо – в свете фонаря оно казалось мягче, чем обычно.
– Я не знаю, – призналась я наконец. – Честно не знаю. Иногда – нет. Иногда – да. Но есть одно: я хочу быть рядом. Я хочу знать, что он где-то поблизости, даже если он холоден. И это пугает больше всего.
Ная рассмеялась тихо, не издевательски, а скорее удивлённо, как будто обнаружила новую деталь в знакомом пазле.
– Это уже что-то, – сказала она. – Желание быть рядом – это, знаешь ли, неплохая основа. Но слушай, Иви. Ты не должна терять себя. Быть рядом – да. Ждать, подстраиваться, позволять ему водить тебя по своим причудам – нет.
– Я понимаю, – прошептала я, – боюсь потеряться в этом его вечном «то тепло, то лед». Но и уйти сейчас кажется неверно, словно я убегаю от чего-то значимого, пусть даже это ранит.
Ная сделала шаг вперёд и взяла меня за руку – жест простой, но ровный, как измеритель правды.
– Тогда держи меня за руку и держи себя крепко, – сказала она. – Я буду рядом. А если он решит тебя сломать… ну, тогда я сломаю ему нос. Шучу. Или нет.
Я улыбнулась сквозь внезапный прилив слёз, потому что в её «я буду рядом» звучало настоящее спасение: не романтика, а конкретное плечо, плед, чувство защищённости. Внутри меня снова зазвенел тот маленький внутренний конфликт: хочу быть рядом, но боюсь потерять себя.
– А он тебе говорил что-то о себе? – спросила Ная. – Про прошлое, почему он такой?
Я слегка откинула волосы назад плечом – обсуждать чужую семью и его мотивы было как раз то, что я терпеть не могла: спекуляции и догадки
– Ничего. Я вообще не знаю, что с ним происходит. Иногда он как чужой, иногда… я не понимаю, что он делает.
Ная вздохнула, и в этом вздохе был и упрёк, и понимание.
– Слушай, – сказала она вдруг серьёзно, – если ты хочешь быть рядом, делай это осознанно. Не отдавай себя в долг без расписок. И если он ценит твою заботу – пусть это будет видно. Если нет – мы разберёмся. Я не дам тебе тонуть просто потому, что у кого-то снаружи дыра.
Я рассмеялась горьковато и, может быть, слишком быстро:
– Отлично. План – не тонуть. Классный девиз.
Мы опять пошли дальше. По дороге я рассказывала ей случаи: как он однажды оставил на моём блокноте кривой набросок домика, как в коридоре выдал «не лезь», как ночью снимал с моего лица ресничку. Ная в ответ вздыхала, спорила, давала советы и, главное, слушала – до тех пор, пока я не почувствовала, что её присутствие сделало мне легче: мысли перестали быть крошечными острыми камнями и стали чем-то, что можно поднимать, рассматривать и класть обратно.
– Знаешь что, – сказала Ная, когда мы уже почти дошли до её дома, – будь рядом. Но если он начнёт закрываться и затягивать тебя в свою тишину, не стесняйся сбежать в мою комнату. Я заварю чай, дадим ему шанс объясниться, а если не объяснится – вместе продумаем, как дать ему понять, что я вижу его насквозь.
Я кивнула, потому что в её словах было не только юмор, но и план: «быть рядом» с защитой, с границами. И это было как манометр – маленький, практичный, дающий опору.
Дверь Наи тихо захлопнулась за нами, и на кухне разлился аромат корицы и чеснока от её полуготового ужина. Мы поставили кружки на стол, и я ощутила лёгкость: просто проговорить всё вслух – словно вернуть себе часть себя. Ная коснулась меня локтем, подмигнула и сказала:
– Ты сделала шаг, Иви. Это уже не просто «не знать». Это движение.
Я улыбнулась – настоящей, не наигранной. Внутри что-то тихо согрелось: это не давало ответов на все вопросы, но шептало обещание – беречь себя, даже если сердце тянется идти рядом.
***
Ная получила сообщение от кого-то из знакомых – короткое: «Пляж. Сейчас. Музыка, огни, приходите». Она посмотрела на меня с тем тихим вызовом, который она использует, когда хочет, чтобы я вышла из своей скорлупы хотя бы на одну ночь. Я хотела отказаться. Я хотела остаться в этом мягком мире лампочек и чая, где Ная варила кофе и всем казалось, что тревога – это только плохой сон. Но в конце концов я надела кеды, потому что иногда хочется посмотреть, как выглядит твой страх в ночном свете.
– Пойдём? – спросила Ная, уже вешая на плечо сумку с пледом. Её глаза горели от любопытства. – Там Джеймс будет, и ещё ребята с нашего курса. Будет шумно. Будет весело.
– Шумно – это пожалуйста, – ответила я, хотя в груди дрогнуло что-то, похожее на предчувствие. – Весело – спорно.
Мы шли по улицам, будто переходя из одного мира в другой: из домашней тишины в место, где город дышал громче. Уже на подходе к пляжу бас проваливался в грудь как тяжёлое облако; над песком плясали фонарики и фонари, кто-то разжигал маленькие костры в металлических бочках. Музыка, смешанная с солёным ветром, пахла как что-то запретное и притягательное одновременно.
– Слушай, – начала Ная, когда мы оказались в толпе, – если что, я рядом. Просто скажи мне, если Джеймс будет слишком нахальным.
Я улыбнулась, но это была не та улыбка, что рассеивает – скорее предупреждение.
«Правило номер три», промелькнуло в голове: не поддаваться на случайные доброты. Я повторяла это про себя, как заклинание, когда перед нами промелькнул силуэт Джеймса – в рубашке, которую он явно не надевал ради пляжа, с той самой лёгкой небрежностью баристы, которая работала на его обаяние.
– Иви! – он подошёл как будто мимоходом, а на самом деле целенаправленно. – Ты выглядишь лучше, чем кофе в понедельник утром. Правда.
Его улыбка была солнечной, слишком открытой. Он взял моей руку, как будто уже имел на неё право. Я почувствовала, как в горле сел комок.
– Джеймс, – сказала я ровно, пытаясь не дать голосу дрогнуть. – Не надо.
Он только рассмеялся – тот самый лёгкий смех, что умело разгоняет неловкость – и наклонился ближе, чтобы перекричать музыку:
– А я думал, у нас уже есть договорённость – ты и я, разговор о мире, кофе после полуночи… – он коснулся моей руки пальцами, и в этом прикосновении было больше ожидания, чем уместности.
Я резко отдернула руку, чуть сильнее, чем планировала, но не устраивая сцену: плечом сдержала жест, словно глоток воздуха перед бурей. Ная мгновенно встала между нами, как невидимая стена, готовая принимать на себя всё напряжение.
– Не сегодня, Джеймс, – Ная улыбнулась холодно. Это была «ная-улыбка», которую он давно не видел. – Она пришла отдыхать, не ловить цветы.
Он поднял руки в покорной шутке, но взгляд не отпускал меня.
– Ладно-ладно, – сказал он затем мягче, – просто хотел сказать, что ты – огонь. Не держи в себе.
«Не держи в себе» – как будто он имел право требовать от меня какого-то света. Мне было неприятно и странно приятно одновременно: жалкое признание, что слова всё ещё задевают тонкие струны внутри. Я улыбнулась лишь краешком губ, потому что резкость могла вызвать вопрос «почему», на который у меня не было ответа.
– Я не в игре, Джеймс, – ответила я коротко. – Но спасибо за комплимент.
Он кивнул, отступая, но не полностью. Осталось ощущение, что он мог вернуться – и это подталкивало моё сердце к беспокойству. Я чувствовала, как глаза окружающих периодически скользят по нам, как по сцене. С одной стороны – смущение. С другой – какая-то глупая гордость, что меня заметили.