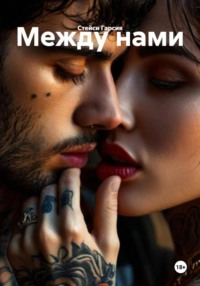Полная версия
Семь шагов навстречу

Стейси Гарсия
Семь шагов навстречу
Глава 1 – "Непрошенный сосед"
Я всегда думала, что переезд – это ритуал взросления: коробки, список дел, пара знакомых фраз с новыми соседями и долгие ночи, когда можно зарыться в учебники и не думать о прошлом. Сегодня утром Санта-Моника пахла кафешками и морской солью, и я пыталась убедить себя, что всё будет именно так – студенческая жизнь, "Сиасайд Унивёрсити", маленькая, но моя комната.
Мои вещи умещаются в трёх коробках, сумке с ноутбуком и в блокноте, который я ношу как талисман. Внутри – беспорядочные заметки, фразы для колонок и три аккуратных списка: «расписание», «контакты» и «не пускать в дом тех, кто делает вид, что знает лучше». На среднем пальце блестит тонкое серебряное кольцо – я положила туда палец ещё в пятом классе и с тех пор оно как будто напоминает: «не будь такой доверчивой».
Я стараюсь делать вид, что не замечаю соседних квартир, но лестница до нашей квартиры – узкая, и оттуда доносятся голоса, шорохи, запах перегретой кожи и табака. Я вытаскиваю коробку за коробкой, мысленно вычеркивая мелкие вещи: чашки, подушки, пластинки, которые в итоге замещают друг друга и становятся одним уютным комком.
Когда я втаскиваю последний ящик, в дверях напротив уже стоит фигура, от которой мое сердце делает маленький юркий прыжок, будто напомнила старую неровность на дороге. Высокий, чуть растрёпанный, в кожаной куртке, с рулоном чертёжной бумаги под мышкой и татуировкой, выглядывающей из-под рукава. Он не выглядит как кто-то, кого я хочу видеть в своей жизни – ирония жизни: никогда не хочешь, а получаешь вдвойне.
– Эй, – говорит он, и его голос знаком до костей. – Ты… Ивия Эдисон?
Я замираю на секунду. Имя выскакивает из меня само, как будто кто-то нажал кнопку воспоминаний. Я видела его раньше: в старшей школе, в коридорах, в спортивных свитерах, в том самом месте, где начинались все те рваные сцены, что до сих пор играют в фоновом режиме, когда я слишком устала, чтобы держать их в узде.
– Зейн Эшфорд, – отвечает он, и его лицо расплывается в той же улыбке, что и тогда: чуть самодовольной, чуть усталой. – Ага. Слушай, мы – соседи по ошибке, кажется. Похоже, моя коробка с макетом пролезла только сегодня, а твоя… ну, привет.
Я ставлю коробку и смотрю на него. Высокий, широкоплечий, с руками, которые, похоже, привыкли нести гораздо более весомые вещи, чем мой старый чайник. Он прикрывает глаза, будто проверяет память, и в словах слышится лёгкая насмешка и столько же неосознанной усталости, как будто университет – это не просто знания, а постоянная игра в выживание.
– Ты помнишь меня? – спрашиваю я, потому что в глубине души мне важно понять, насколько далеко он зашёл тогда. Или не зашёл вовсе.
– Как не помнить, – отзывается он, и его рот складывается в полуулыбку. – Вроде весь класс запомнил тебя. Только вот… – он жмёт плечами, отталкивая тему, – молодость, глупость, всё такое.
Это его «молодость, глупость» – и его голос, и его легкость – что-то во мне сжимается. Я привыкла, что люди легко списывают то, что для меня было не просто «молодость». Но я не собираюсь сейчас устраивать сцену в коридоре, с коробками и скрипящей дверью. У меня есть список правил: не скандалить при незнакомых, не позволять прошлому диктовать сегодняшний план и держать дистанцию.
– Рада знакомству, – говорю я ровно. – Если тебе нужно место для макета, коридор свободен. Я предпочитаю, чтобы у меня было чуть больше порядка, чем у тебя по ту сторону двери.
Он фыркает, и в этом фырканье – знакомое самодовольство. Но затем он наклоняется чуть ближе, чтобы поднять падающую ленту упаковочной бумаги, и рука его касается моей на пару секунд – не интимно, просто факт: он сильнее, чем я думала. Мгновение, и всё это перестаёт быть маленьким. Я отстраняюсь.
– Я не собираюсь быть твоим кошмаром, – говорит он, будто читая мои мысли. – Хотя, если хочешь, могу починить твои лампы. Умение обращаться с проволокой у меня неплохое, архитектура, знаешь ли.
Я сжимаю губы. Не потому, что мне важно, чтобы он починил лампы (я сама с этим справлюсь), а потому что его предложение звучит одновременно и заботливо, и грубо. Как будто он пытался замазать старую царапину свежей краской.
– Лампы – это мило, – отвечаю я. – Но я больше переживаю за твои чертежи. Не царапай их своим стилем жизни.
Он смеётся – искренне, не насмешливо. И в этот смехе есть признак чего-то настоящего, чего я не могу назвать иначе, чем человеческая мягкость, спрятанная за панцирем. Я не хочу это признавать, но всё ещё потрясена его присутствием. Он – как музыка, которая звучит не вовремя и слишком громко, чтобы её игнорировать.
Мы расставляем коробки по комнатам, делим кухню взглядом, который говорит: «я оставляю за собой полку под мою кружку» – и «не трогай мои законы». В какой-то момент он садится на порог моей комнаты, расправляет рулон чертежей и смотрит на меня так, как будто пытается решить задачу, которую не учат в архитектурных факультетах: как ужиться с человеком, которого был частью твоего прошлого.
– Соседи, – говорит он наконец, и в этом слове мало чего обещающего. – Но если что, я умею не только шуметь. Умею и молчать. Иногда полезно.
Я почти улыбаюсь, потому что он предлагает то, что мне нужно: тишину. Но скоро пойму, что это не так просто. Потому что жаркие вечера Санта-Моники, университетские коридоры и те самые закаты, о которых все пишут в инстаграмах, полны неожиданностей. И сосед – особенно если он похож на Зейна Эшфорда – не будет простой опцией.
Когда он уходит на свою сторону коридора, оставляя за собой запах кожи и сигарет, я стою у порога и понимаю одну простую вещь: это будет не только игра на терпение. Это будет игра на память. И у меня есть два варианта: либо снова закрыться в себе и ждать, пока время сделает своё, либо попытаться выстроить правила по-новому.
Я беру блокнот, открываю первую страницу и вписываю:
«Правило №1 – не позволять прошлому определять соседство».
Под этим подпись: «Иви».
Затем закрываю тетрадь и иду ставить чайник – потому что даже если внизу кто-то шумит гитарами и слушает рок, я всё равно хочу иметь крошечный островок мира, где можно дышать. И где я, возможно, буду учиться терпеть и ещё чему-то – чему-то, что я пока не готова назвать.
***
Я ставлю кружку на полку, пытаясь не думать о том, как его голос ещё крутится в голове – «не только шуметь. умею и молчать». Но молчание – это не его стиль надолго. Он оставил после себя запах, рисунок привычек на пороге: сигарета, немного лака для волос, чёрный карандаш для чертежей. Это пахнет жизнью, которая не спрашивает разрешения войти в твой день.
Дверь в мою комнату едва закрыта, и я слышу, как в коридоре что-то шуршит. Через пару минут он снова появляется, глядя как будто на карту: присматривается, где что стоит. Я поднимаю взгляд и ловлю его на том, что он смотрит прямо на меня – холодно, без улыбки.
– Слушай, – говорит он, почти без выражения, – я так понимаю, мы делим кухню, да? Права на полки – отдельная тема. Короче, правила такие: не трогай мои чертежи, не трогай мои инструменты, не трогай мои… вещи. И вообще – не лезь ко мне. Ты мне не нужна. И ты мне не пара.
Слова ударяют аккуратно, почти практично, как острый карандаш по бумаге. Я ожидаю насмешки, но тут не насмешка – жесткая граница. Как будто он расставляет невидимые колышки и втыкает между нами табличку «запрещено».
Я улыбаюсь – с той улыбкой, что уже изучила тысячу форм защиты. Она мало что даёт, но иногда действует лучше чем нож.
– Приятно познакомиться, сосед, – говорю я мягко. – Я обычно сама по себе. Не ищу пары. И вообще у меня аллергия на парные вещи.
Его бровь дергается, он будто хочет отдать ответ, но вместо того делает шаг назад и садится на ступеньку, сложив руки по-особому: так, будто конструкции мира важнее людей. Из-за его позы кажется, что он готовился к этому разговору заранее – и в то же время нет, всё спонтанно, как его жизнь.
– Хорошо, – отвечает он, и это слово звучит холоднее, чем могущество зимнего ветра. – Просто знай: я не буду подстраиваться под чьё-то ожидание. Я сам по себе. Если тебе это мешает – купи беруши и живи дальше. Я не собираюсь притворяться.
Мне хочется рявкнуть. Хочется сказать: «я не просила тебя притворяться. Я просила – не насмехайся». Но я делаю то, что умею лучше всего: беру в руки сарказм и наряжаю им мысль.
– О, как мило. Я всегда мечтала жить с человеком, который ценит одиночество больше, чем базовую вежливость. – Я протягиваю руку, будто здороваюсь, и зажимаю её в кулак. – Только предупреждаю: если ты будешь оставлять пустые пачки от сигарет на моей полке, я буду считать это персональной войной.
Он смотрит на мою руку, как на квитанцию, которую не нужно оплачивать. Потом, неожиданно для меня, он усмехается – коротко, почти уважительно.
– Персональная война, – повторяет он. – Хорошо. Будет забавно.
И вот оно – вспышка того самого «удовольствия», которое, казалось бы, он испытывает от того, что меня задевать. Мне сложно понять, где искренность, где броня, и где просто игра в недоступность. Может, он просто умеет говорить резкие вещи, чтобы не показать другое. Может, это щит. Может, он всегда так – «не трогай меня» в качестве девиза жизни.
Когда я закрываю дверь, в комнате становится тихо, и мне кажется, что стены шепчут собственные предрассудки: «он – опасный», «он – слишком хорош для тебя», «он – тот, кто не признает, что сделал больно». Я сажусь у окна, смотрю на море: волны бьют спокойно, как будто все эти человеческие фронты – лишь временная рябь на поверхности. Но внутри всё иначе – мои мысли пульсируют, как мотор, который не выключали целую ночь.
Вечером, когда город гасит дневную суету, в коридоре начинается жизнь. Кто-то играет на гитаре, кто-то смеётся, в коридоре ахнет тако и теплым песком. Я готовлю ужин и слышу, как в комнате напротив включают музыку – громкую, с басом, который проходит через стены, через чашки, через меня. Это его: рок, бас, голос, который, казалось бы, нигде не заканчивается.
Я подхожу к двери и стучу – не от злобы, скорее от проверки. Он открывает с лицом, которое говорит «что тебе нужно», и держит в руках кружку, из которой поднимается пар.
– Слушай, – говорю я, – музыка громкая. Не возражаешь, если я попрошу снизить?
Он смотрит на меня минуту, как будто считает ценность просьбы. Затем – такое же спокойное, но жесткое «нет».
– Нет, – отвечает он. – Я не снижу. Это моя квартира. Я плачу за неё так же, как и все. Если тебя раздражает музыка – надень беруши.
Я чувствую, как внутри поднимается тепло. Гнев – старый, но знакомый друг. Мозг подсказывает сто ответов, а сердце – другие, мягкие и нелогичные. Я не хочу выглядеть жалкой, я не хочу поддаваться тем эмоциям, но моя рука сама тянется к блокноту.
– Хорошо, – говорю я медленно. – Тогда я буду ждать, когда ты будешь не в квартире. Или я куплю наушники громче твоей музыки.
Он слегка улыбается, и в этот раз я ловлю в его взгляде не только презрение, но и что-то вроде признания: он знает меня, знает мою жесткость, и ему это не чуждо.
– Делай что хочешь, – говорит он. – Только не думай, что я изменюсь ради тебя. Я не меняюсь.
Я закрываю дверь и сажусь за стол. В блокноте появляется новая строка:
«Правило №2 – не давать ему слишком много власти над своими эмоциями».
Под ней – подпись «Иви», и маленькое сердце, перечёркнутое карандашом. Потому что правду сказать – я чувствую, как он уже владеет частью моего внимания, и это раздражает меня сильнее всего.
Ночь опускается медленно. Музыка звучит там, через стену, иногда стихающая, иногда превращающаяся в рулон громкого ритма. Я знаю, что завтра – первая лекция, презентация, люди, знакомства. И ещё: я знаю, что жить рядом с ним будет означать каждый день учиться новой форме терпения. Той, что держит тебя на краю, заставляет бояться, но иногда и легонько согревает. Иначе говоря – ненависть только началась.
Глава 2 – "Правила на деле"
Утро в нашей квартире пахнет кофе из дешёвой кофеварки и тёплыми тостами, которые я делаю слишком часто, чтобы это было полезно. Свет пробивается сквозь жалюзи, и Санта-Моника кажется далёкой картинкой – волны, пальмы, всё такое. Внутри – две комнаты, одна гостиная, маленькая кухня и ванная, где мы, похоже, регулярно устраиваем утренние дуэли.
Сегодня я просыпаюсь раньше, потому что всегда так делаю: вычеркиваю пункт из списка «не опоздать на лекцию», проверяю пару писем и выписываю пару строчек в блокнот. На столе лежит тот самый карандаш, который я держу как ритуал: он помогает мне думать, когда я слишком много думаю. Слышу, как в соседней комнате что-то шуршит – Зейн, наверное, ищет свои инструменты или надувает гитарную струну. Басы ночи ещё будто висят в стенах.
Я иду в ванную с наушниками в ушах, переключаюсь на режим «не спрашивать много», потому что правило №2 всё ещё в силе. Но как только приоткрываю дверь ванной, вижу, что полотенце его – на крючке, зубная щётка его – на полке, и в душе кто-то уже стоит. Это он. Волосы еле влажные, взгляд собранный, будто он готовится к бою с градостроительным планом, а не к лекции по архитектурной истории.
– Я иду в корпус через двадцать минут, – произносит он спокойно, словно делится погодой. – Займёт много времени, если ты хочешь долгую рутину, – добавляет он, и в его голосе проскальзывает та самая броня: «не лезь ко мне», «ты мне не пара».
Я отвечаю ровно, потому что это легче:
– Я на паре в половине девятого. Двадцать минут – это не «много». – И тут же ловлю себя на желании добавить: «и вообще, ты мог бы выключать музыку после полуночи», но уже молчу – глупо начинать утро с ссоры на пустом месте.
Он не отвечает. Его подбородок немного поднят, в губах какой-то стальной прикус. В его лице читается то, что я называю «режимом защиты»: слова короткие, действия чёткие, никаких случайных жестов. Я быстро принимаю душ, и нам самим смешно, как тесно тут всё устроено: я чищу зубы, он кладёт туда руку, поворачивается – и наши локти сталкиваются. Молчат, отстраняются, будто это было и не про необходимость выжить, а про какой-то священный ритуал личного пространства.
Выходя из ванной, замечаю, что он оставил на столе чертеж – большая бумага, покрытая аккуратными линиями и пометками. Он же постучал по ней карандашом, пока я мыла волосы. Это что-то личное, деликатное, и почему-то мне хочется не трогать его. Что-то в этом – чуждое, как чужая книга с закладкой.
– Не трогай мои вещи, – говорит он, как запись на двери. – Особенно чертежи.
– Я знаю правила, – отвечаю я, и в голосе слышится не столько раздражение, сколько усталость. – Твои правила – ты их сам и пишешь. Мои правила – я их тоже пишу. – Я показываю ему блокнот, где уже видна запись: «Правило №2 – не давать ему слишком много власти над своими эмоциями».
Он усмехается краешком рта.
– Ты прямо маленький полковник с планами, – говорит он и, кажется, в этом чуть больше любопытства, чем презрения.
Я не выношу, когда он видит во мне меньше, чем я сама. И, как всегда, мой сарказм – первая и лучшая форма ответа.
– Зейн Эшфорд, – говорю я, – архитектор, мастер молчания и творец правил. – Я склоняюсь так, будто произношу его титул.
Он смотрит на меня и на минуту в его взгляде мелькает что-то, что нельзя назвать теплом. Скорее – пульсирующая линия интереса, которая тут же уходит. Может, это вообще не про меня, а про задание, которое он только что вспомнил.
Утро гонит нас на пары. Мы выходим почти одновременно, обмениваемся парой выученных фраз: «не трогай мои вещи» – от него и «я тебя не пощажу» – от меня. На лестнице встречаем всех этих шумных студентов, которые делают вид, что университет – это праздник и вечное лето. А я – Иви – делаю вид, что мне тоже всё это нравится.
День проходит в лекциях и записных книжках. Я слушаю профессора, который говорит о структурах и нарративах. Журналистика учит меня замечать, фиксировать, не попадать под собственные эмоции – но как же легко смотреть на людей и придумывать про них истории? Я записываю, что вижу: Зейн на лекции по архитектуре сидит, будто скульптура, руки сложены, карандаш стучит по краю бумаги. Он не смешной, и в этом моя тайная проблема: он умеет быть серьёзным и обаятельным одновременно, чего я вообще не переношу.
Вечером мы снова встречаемся дома. Квартира пахнет ужином: кто-то готовит лапшу, кто-то – тухлыми надеждами студенческой независимости. Я ставлю чайник, и в голову лезут мысли о том, что я снова позволила кому-то занять часть моего пространства. С другой стороны – не дать ему ни единого шанса на ошибку – тоже утомительно.
Происходит мелочь: у меня падает банка с орехами, крышка раскатывается, и шуршащий звук орехов – это мой личный маленький апокалипсис. Я пытаюсь поймать банку руками, и в этот момент Зейн – тот самый, который делал вид, что не заботится – вдруг наклоняется и ловит банку раньше меня. Его рука лёгкая и уверенная. Он возвращает мне банку, не делая вид, что это что-то особенное, просто ставит её на стол.
– Спасибо, – выдыхаю я, потому что это вежливо. Но в моём теле что-то дрогнуло: сила его руки была реальна, и в ней – практичность. Не спасение, не рыцарство, просто умение делать дела.
Он кивает, не поднимая глаз.
– Не делай из этого роман, – говорит он и уходит в свою комнату, будто закрывая сцену.
Я открываю блокнот и пишу:
«Правило №3 – не поддаваться на случайную доброту».
Подпись: Иви. Под ней – маленький знак вопроса, потому что, честно сказать, я уже не уверена, кому из нас больше не нужна эта игра в «не трогай».
Ночь опускается, и музыка в его комнате начинает играть тише – он, кажется, понимает, что громкость – это тоже часть дипломатии. Я остаюсь на кухне, смотрю в окно на улицу: свет фонарей рисует на песке полосы. В соседних окнах видны чужие жизни: кто-то смеётся, кто-то плачет, кто-то просто смотрит в телефон.
Я делаю чай, беру блокнот и записываю ещё одно правило – не потому, что хочу, а потому, что мне так легче дышать:
«Правило №4 – не давать страху диктовать дружбу».
Под ним – короткая строчка: «Пока не доверяй. Но смотри внимательно».
Зейн проходит мимо кухни, не останавливаясь. Он бросает через плечо:
– Не жди от меня слишком много. – И тут же слышу, как в его голосе – не сталь, а усталость.
Я смотрю ему вслед и понимаю, что ненависть – это смешанная эмоция. В ней и укор, и ожидание, и… что-то ещё, что пока не имеет имени. Мы живём в одной квартире, и это значит, что нам придётся выучить немало новых правил – и возможно, одно из них станет самым трудным: правило отпускать прошлое, чтобы посмотреть, что будет, когда стены станут тоньше.
***
Лекцию ведёт профессор с голосом, который мог бы быть саундтреком к падению дождя: монотонно, с небольшими вкраплениями сарказма для поддержания дисциплины. Я листаю блокнот, делаю пометки, которые выглядят аккуратнее, чем мои мысли, и замечаю, как луч света от окна рисует на страницах полосы. Последняя пара – это всегда проверка на выносливость: мозг устал, а тело требует свободы. Я держу на коленях карандаш, которым рисую маленькие сцепления слов: «сюжет – люди», «вопросы – ответы», «не путать жалость с интересом».
Вдруг рядом с моей парой появляется голос – яркий, как стакан лимонада на жарком пляже. Он не кричит, не просит одолжить тетрадь, но его присутствие требует внимания.
– Привет, можно? – спрашивает девушка и ставит на стол две крошечные коробочки с печеньем. – Я заметила твой блокнот. Он выглядит так, будто там хранятся все важные вещи мира. Меня зовут Ная.
Её голос и манера – смесь уверенности и беспокойной доброжелательности. Она садится без спроса, как будто у неё есть полный патент на эту аудиторию. У Наи – короткие тёмные волосы, которые она заколола хаотично, как будто специально, чтобы случайно выглядеть небрежно. На пальцах – пара разноцветных колец, а взгляд – такое редкое сочетание энергии и умения слушать.
Я на секунду замешкалась, потом улыбаюсь – автоматически, потому что быть вежливой выгоднее, чем морщиться.
– Ная, давай – говорю, показывая место рядом.
Она шевелит бровью, открывает одну из коробочек и протягивает мне печенье.
– Для тех, кто выживает последние пары. – Серьёзно, но с тоном, который говорит: «я знаю, что ты боишься, но вот сахар».
Я не знаю, откуда у неё эта смелость, но она действует как приправа. Мысль о том, чтобы остаться в одиночестве после пары, исчезает из списка приоритетов и заменяется на лёгкую интригу: кто эта Ная и почему ей так хочется быть моей новой знакомой?
– Спасибо, – говорю я. – Я Иви.
– Я видела пару твоих колонок в университетской газете, – добавляет она, как будто это объясняет её смелость. – Ты пишешь так, что я чувствую себя виноватой даже за то, что когда-то забывала сдавать рефераты вовремя.
Это – комплимент и вызов одновременно. Я ставлю чашку на стол и понимаю, что хочу узнать о ней больше. Ная быстро рассказывает, что учится на кинематографе, но любит журналистику за то, что она реальна; что её лучший друг – тот самый Джеймс, с которым мы обязательно должны познакомиться; и что она обожает кофе с корицей больше, чем положено.
Лекция кончается; люди расходятся, кто-то обсуждает задание, кто-то – дату экзамена. Ная встаёт и предлагает сходить в ближайшую кофейню на углу – та, где кафе смешивает запахи эспрессо и океана, а пол всегда усыпан песком, принесённым с пляжа кем-то нерадивым. Я соглашаюсь почти без раздумий – потому что иногда новые знакомства спасают день лучше, чем сон.
Кафе пахнет корицей и старой бумагой – идеальное место для разговоров. Ная волшебно владеет пространством: она ведёт нас к столу у окна. За столом уже сидит парень – и я чувствую, как мир делает легкий крен.
Он встаёт, чтобы поздороваться: рост выше среднего, лицо солнечно-выгоревшее, волосы мягко растрёпаны, улыбка – открытая и честная. Глаза – тёмно-карие, такие, в которых хочется искать ответы, но боишься их найти. На нём простая футболка и джинсы, и видно, что он не старается быть кем-то – он просто есть. Это Джеймс.
– Иви? – спрашивает он, и его голос – как бархат, только что расправленный после долгой стирки. – Ная написала о тебе. Рад знакомству.
Я тянусь рукой вести лёгкое рукопожатие, но на секунду зависаю: всё во мне оценивает ситуацию – и немного начинает заглядывать любопытство. Его ладонь тёплая, сама жёсткая так, как будто привыкла к работе руками и к музыкальным инструментам одновременно.
– Приятно, – отвечаю, и звук слова выходит ровным, аккуратно собранным.
Он улыбается шире, эта улыбка не демонстративная, она естественная, как солнце в полдень.
– Я Джеймс. – Он указывает на стул напротив себя. – Присаживайся. Либо мы все втроём будем притворяться, что только кофе спасёт мир, либо позволим реальному разговору сделать это вместо нас.
Ная подкалывает его:
– Джеймс, не зарывайся. Я сказала Иви, что ты не опасен. Главное – если он захочет сыграть, знай: у него есть губы для смеха и голос для песен, но он всегда оставляет половину души в тетрадях с текстами.
– В основном я оставляю там обещания, – говорит Джеймс и бросает на меня взгляд, в котором слышится искренний интерес. – Что ты пишешь, Иви? Расследования? Романы? Сплетни?
Я немного смущаюсь – не от его вопроса, а потому что он спрашивает так, будто действительно хочет услышать ответ. Это непривычно. Обычно люди смотрят на меня отчасти как на разделяющую – «журналист vs персонажи», отчасти как на того, кто может разоблачить. А у Джеймса глазки не ищут уязвимости, они просто слушают.
– Я пишу о людях, – отвечаю честно. – О том, как они прячутся и как их можно поймать на маленьких честных жестах. – Я чувствую, как слова выстраиваются сами: это проще, чем придумывать защиту.
– Звучит заманчиво, – кивает он. – Могу предложить тест-драйв: помогу тебе поймать человека на честном жесте – если он согласится, конечно.
– А кто этот человек? – спрашиваю, ожидая шутки.
Он указывает на Ная с улыбкой.
– Она – проверяемая единица. – И потом, с легкой усмешкой: – А если хочешь, можем поймать тебя – на том, что ты ешь печенье втайне от самой себя.
Я смеюсь – коротко, по-настоящему, потому что его поддразнивание лёгкое и не ядовитое. Ная хлопает в ладоши, как будто тут же выиграли в лотерею.
Мы говорим о простых вещах: о курсах, о том, как Ная снимает короткометражки, о том, что Джеймс работает баристой в этой же кофейне по вечерам и иногда играет на вечеринках, о детских мечтах превратить город в кино. Чем дольше я слушаю, тем больше понимаю, что эти двое – как два разных аккорда: один тёплый и мягкий, другой – яркий и дерзкий, но вместе они создают мелодию, которую хочется слушать.