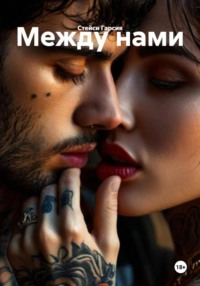Полная версия
Семь шагов навстречу
Когда мы встаём прощаться, Ная хватает мою руку и шепчет:
– Держись рядом. Мы любим людей, которые умеют писать, особенно тех, кто делает это честно.
А Джеймс добавляет, кивая:
– Если что, у нас вечеринка у пляжа в субботу. Приходи. Мы не кусаем.
Я смотрю на их лица – на их откровенную лёгкость – и в душе где-то чуть греется мысль, что, возможно, у этого города есть свои способы спасать людей. Даже тех, кто предпочитает жить по правилам и не доверять новым соседям, которые пахнут гитарой, кожей и сигаретой.
На выходе я ловлю себя на том, что держу в руках не только стакан с остывшим кофе, но и маленькую надежду: кто-то, кажется, уже начал расшатывать мои «Правило №2» и «Правило №3», не ухом – а тонкой, почти неощутимой добротой. И это пугает не меньше, чем приятно.
***
Я возвращаюсь домой в тот момент, когда Санта-Моника будто бы дышит глубже: солнце уже почти спряталось за горизонтом, воздух прохладнее, а на улицах стали мелькать лампы. В сумке – пустой стакан от кофе и лёгкое ощущение чужой доброты, которое ещё не успело стать привычкой. Надеюсь, что в квартире будет теплее, чем обещает коридор.
Дверь открывается, и на кухне – полумрак. Лампа в гостиной не включена; в кухонной нише рядом с раковиной – одна слабая лампочка, от неё отбрасываются длинные тени на плитку. Зейн сидит за столом с согнутой спиной, перед ним – развёрнутый чертёж, кружки с недопитым кофе и пара оторванных листов, усеянных его аккуратными линиями и пометками. Он не замечает меня сразу. Его профиль – острый, как карандаш, которым он лепит свои перспективы, и сейчас в этом профиле – усталость, которую не скрыть маской «не трогай меня».
Запах – кожа и что-то сладковато-горькое, как сигарета, и соль с океана, которая прилипла к куртке. Я ставлю сумку на крыло стула, пытаюсь тихо расставить вещи, чтобы не выглядеть вторгающейся.
– Ты дома, – произносит он без взгляда. Слова ровные, короткие, словно щёлчок выключателя.
– Да, – отвечаю. – У нас были планы: кофе, печенье, и попытка не заблокировать телефон с экзаменами до конца семестра. – Я говорю это так же легко, как будто перечисляю ингредиенты для салата; таким образом я маскирую, что мне было приятно.
Он не отрывает глаза от бумаги. Только теперь я замечаю, как его плечи дрожат чуть чаще, как будто за линиями скрывается ещё и температура. Его рука сжимает карандаш до хруста.
– Музыка вчера была громкая, – выдыхает он внезапно. Слова – как бросок ледяной воды. – Я просил тишины.
Я моргаю. Я слышала музыку – да, в тот вечер басы были близки к тому, чтобы пройти сквозь стены – но я ожидала, что его комментарию будет сопутствовать что-то более элегантное, чем эта пуста-виноватость. Его «я просил» звучит отчуждённо, как будто он говорит не только о звуке, а о праве быть хозяином моего пространства.
– Прости, – говорю автоматически, хотя в груди закипает неудовольствие. – Но я не устраивала у нас вечеринку.
Он наконец отводит взгляд и смотрит на меня. В этом взгляде – скорее не раздражение, а камень, который он метнул в сторону, чтобы посмотреть, как я отреагирую.
– Это не про время, – роняет он. – Это про то, как ты ведёшь себя. Как будто всем вокруг нужно знать, что у тебя есть друзья, что ты не одна. – Его голос становится холодным, словно стекло в окне. – Я не хочу смотреть, как ты относишься ко всем этим – как к временным феноменам. Мне не нужна сцена.
Я делаю шаг к холодильнику, открываю его, чтобы взять воду, и понимаю, что он нацелился не на кофе и не на музыку. Он целится на меня, на то, как я позволяю миру входить в мою жизнь. В груди – старый автоматический импульс: обороняться. Я беру бутылку и чувствую, как пальцы дрожат чуть меньше от холода, чем от слова «сцена».
– Поняла, – говорю медленно. – Я не устраиваю спектаклей. Мне просто хочется… нормальности. Друзья – это нормально.
Он смеётся без юмора, коротко и сухо.
– Нормальность – это то, что можно купить в магазине. Не нужно выкладывать её на показ, Иви. – Эти слова режут, потому что в них – будто обобщение всего, что он считает фальшивым.
– Ты говоришь о «показе», а сам прямо сейчас демонстрируешь охранную архитектуру: ограда, рвы, таблички с надписью «не входить», – отпускаю я, позволяя сарказму выступить на защиту, потому что иначе он меня разрежет. – Это немного смешно, если не трагично.
Он резко тарелку рукой, удивляет меня резкостью:
– Смешно? Ты думаешь, у меня всё ради забавы? – Его лицо вдруг искажает не то чтобы злость, а смешение усталости и стыда. – У меня дедлайн, Иви. У меня завтра защита, и я должен уложиться. Я не хочу, чтобы в моей квартире был цирк.
И тут – ирония: он защищает свою «тишу» не ради одиночества, а ради чего-то, что ему дорого. Это его профессиональная святая причина, и она никак не совпадает с моим прошлым, где «тишина» означала совсем другое – одиночество, заброшенность, страх. И в этом несовпадении растёт трясина.
– Понимаю, – говорю и в этом «понимаю» – скорее признание того, что каждая наша борьба теперь идёт не только за право включать музыку. – У твоих макетов указанные сроки, у меня – статьи. У нас обоих – свои ритуалы.
Он смотрит на меня, и в его глазах мелькает что-то вроде испуга – не от меня, а от того, что между нами есть реальный шанс взаимоповреждения. В один момент он тихо говорит:
– Я не хочу, чтобы ты думала, будто я не ценю людей. Я просто… не люблю, когда моё личное пространство превращается в арену.
– Это твоя квартира тоже, – отвечаю. – Но мы живём вместе. Это не о тебе или обо мне, это о нас, – на секунду я позволяю себе говорить серьёзно, без шпилек. – И если ты хочешь, чтобы здесь было тихо ради защиты макетов – скажи. Я помогу. Но не говори, что у меня «сцена», когда я просто живу.
Он застывает, и в тишине слышно, как где-то в коридоре пищит чей-то телефон. Он поднимается, ходит кругами у стола, как будто расставляет невидимые вещи. Наконец, не сразу – потому что он далеко не человек, который легко сдаёт позиции – он медленно опускается обратно и произносит:
– Я не хочу быть тем, кто говорит тебе, где и с кем тебе быть. Но я не готов выглядеть… смазанно. Не хочу, чтобы мои вещи, мои шумы, моё одиночество, моё «я» терялось в театре чужих жизней.
«Смазано в театре чужих жизней» – звучит театрально, и в этом есть правда: он реально боится раствориться в шуме, потому что, возможно, так раньше он потерял себя. Я знаю это не потому что он сказал, а потому что читаю людей. И вот тут – искра, которую я не могу не заметить: он терпит одиночество, так же как я его боюсь.
– Тогда договариваться? – спрашиваю тихо. – Ты хочешь тишины в ночи. Я хочу друзей. Я не собираюсь устраивать у нас сцены. Но я не откажусь от людей просто потому, что тебе так удобней.
Он сжимает подбородок, и его речь становится плотной:
– Хорошо. Ты берёшь на себя вечерние шумы до десяти. Я прошу тишины после только до пяти утра. Ты не устраиваешь у нас тусовок. Я не буду контролировать твоих друзей. Но если ты будешь… выкладывать их сюда как доказательство, что жизнь у тебя «удалась» – я уйду в свою комнату и останусь там до тех пор, пока мне не надоест.
Я вздыхаю. У нас растут правила, будто быт – это дипломатия. Я чувствую, как обычное раздражение превращается в усталое понимание. Мы совершаем обмены: тишина на ночи против света на днём. Это компромисс, который пахнет старыми договорами.
– Договорились, – говорю я и в этот раз не улыбаюсь. – Только одно: никаких табличек в коридоре «Не входить». Я не для музея пришла.
Он усмехается, и в этой усмешке нет полного согласия, но есть какая-то усталость, принуждение к смягчению.
– Никаких табличек, – соглашается он. – И… – он делает паузу, и я чувствую, что сейчас он собирается добавить что-то важное, – если что, говори. Не уходи в себя, чтобы не трястись потом.
Я прикусываю губу. Его слова несут искреннюю заботу, завернутую в железную броню. Я не буду благодарить, потому что знаю цену признания: он не скажет «извини» громко, но он показал, что умеет договариваться.
Когда он возвращается к чертежам, я слышу, как он тихо бормочет под нос:
– Иви… – и будто бы собирается добавить что-то ещё, но передумал. Я ставлю рядом блокнот и, не говоря ни слова, записываю:
«Правило №5 – договариваться, даже если это больно».
Под ним – подпись: Иви. И ещё маленькая пометка: иногда быть гибкой – это не предать себя.
И когда я закрываю тетрадь, квартира снова наполняется бумажным шелестом чертежей и тихим перезвоном моих мыслей. Мы договорились, но договорённости – тонкая ткань. Их можно носить долго, а можно сразу проткнуть иголкой старых ран. Я понимаю, что эта ночь – всего лишь первый стык в длинной шве, который нам предстоит шить.
Глава 3 – "Свет и тени"
Утро в Санта-Монике всегда как будто под серию фильтров: свет мягкий, воздух чуть сладковатый от океана, и даже пробки на парковке кажутся чуть терпимее. Я шла через стоянку к корпусам, отвечая Нае на сообщение – она писала что-то в духе «у меня сегодня съемки, приходи в кофейню после пары», и я, не глядя, печатала короткий «ок» и уже мысленно планировала, какое печенье взять, когда – бам – врезаюсь в кого-то плечом.
Телефон летит из моих рук, я инстинктивно вытягиваю руку, пытаюсь поймать его. Вместо телефона – тёплая ладонь, которая ловко перехватывает корпус телефона и одновременно мою руку, как будто это был не случай, а заранее отрепетированный трюк. Я поднимаю взгляд.
Он выше, чем я представляла, но не страшно – скорее привлекательно так, что забываешь, куда шла. Тёмно-русые волосы, которые будто бы уложены ветром, а не расческой; тёплые карие глаза, которые рассмеялись вместе с его губами. У него на плече – рюкзак, в руках – блокнот, и на футболке – следы от кофе или от жизни, не знаю. Он улыбается так, будто это нормальная реакция на то, что тебя только что чуть не сбили с ног.
– Эй, – говорит он, – прости, я совсем не смотрел по сторонам. Ты в порядке?
Я моргаю, потому что в голове нет готового ответа на «ты в порядке?» когда ты только что почти уронил телефон в асфальт и встретил внешность, которую случайно запоминаешь. Отвечаю механически:
– В порядке. Ты тоже?
Он оттягивает руку, возвращая мне телефон, и изучает меня полуулыбкой, будто читает обложку книги.
– Да, – протягивает мне руку. —Приятно встретить человека, который умеет так эффектно проверять качество асфальта.
Я почти фыркаю от собственной гордости, что смогла-таки не упасть и не выдать драму. Беру его руку и пожимаю. Его ладонь тёплая, чуть шершавая – сразу становится понятно, что он не ботаник-чистюля, а тот, кто работает руками: музыка, кафе, жизнь.
Он делает малюсенький поклон, и в этом движении есть театральность, но без показной нарочитости.
– Иви, – повторяет он, – твоё имя как у героини. Мне нравится.
Я краснею, потому что обычно люди не сравнивают мои имена с героями. Внутри щекочет неожиданная радость – маленькая побеждённая стена, которая дала трещину. Джеймс же улыбается так, будто видит дырку в моей броне и намерен её заклеить не клейкой лентой, а смыслом.
– Ты отвечала Нае? – спрашивает он, и в голосе слышится лёгкий интерес. – Она писала, что сегодня будет в кофейне у кампуса. Я думал зайти на пару минут.
Я моргаю – Ная действительно писала. Я была намерена пойти вечером, но сейчас это оказалось неважным.
– Да, – говорю, – она написала. Я только что ответила.
Он наклоняется чуть ближе, так, что между нами пахнет утренним воздухом, кофе и его дезодорантом.
– Тогда, – говорит он с улыбкой, – если ты не против, можем устроить мини-кофе прямо сейчас. Я знаю одно место на углу: там делают корицу лучше, чем у бабушки, – и он подмигивает, словно делая предложение, от которого трудно отказаться.
Я хочу проявить стальную независимость, вспомнить все правила – №2, №3 – и показать, что мне не нужны импровизированные свидания на парковках. Но его голос мягкий, без давления; и в голове всплывает мысль, что иногда полезно позволить себе не соблюдать правила.
– Может быть потом, – говорю я, и в голосе – ровность, которую оттачиваешь годами. – У меня пара через двадцать минут.
Он делает вид, что расстроен, но в глазах играет шутливое «я возвращусь».
– Тогда я подожду, – говорит он, – или, если хочешь, могу сопровождать тебя до корпуса и защищать от падения телефонов. Кажется, сегодня ты на грани спасения.
Я невольно улыбаюсь. Его лёгкий флирт – как утренний шорох пальм: приятный, ненавязчивый. Он не давит, он предлагает.
В этот момент по парковке идёт кто-то, кто превращает момент в катастрофу для моего самоконтроля: Зейн. Он проходит мимо, не глядя на нас, в наушниках, и фыркает – коротко, будто бы это смех, а не звук. Фыркает так, будто мы – маленькие мыльные пузырики, мешающие его устойчивому миру. Я чувствую, как в груди защемляет. Где-то в уголке головы щёлкает запись: «он – мой сосед».
Джеймс замечает его. Он отрывается от меня и, с легкой любопытной ухмылкой, спрашивает:
– Кто это был? Ты его знаешь?
Я почти не думаю и отвечаю резковато – тихо, но так, чтобы Зейн услышал, если захочет: – Никто. Просто прохожий.
Слова выходят автоматически – отголосок старой привычки: не давать никому повод лезть глубже, не признавать значимости чужих фигур. Я вижу, как Зейн чуть оборачивается – едва заметно, но оборачивается. Его профиль возвращается в мой взгляд, и в его лице – то самое «я не пара тебе» выражение, только более сжатое, как пружина. Он не задерживается, уходит дальше, но звук его фырканья остаётся в воздухе.
Джеймс вглядывается в меня, и видно, что он заметил напряжение, но не стал давить. Вместо этого он шутит, чтобы разрядить воздух:
– Никто – лучшая загадка. Я люблю тайны. Но если «никто» умеет красиво ронять телефоны, я хочу узнать его поближе.
Я, прижимая телефон к боку, чувствую, как в груди что-то тает и тут же замерзает на уровне «что будет, если этот «никто» вернётся к нам в дом?». Джеймс продолжает говорить легко, его слова ироничные, но добрые – и в них нет места для нападок. Он интересуется моим блокнотом, просит показать пару записей. Я отказываюсь сначала, потому что это интимно, но потом показываю одну строчку – название статьи, мелкий набросок – и он кивает, как будто понял.
– Ты пишешь о людях, – говорит он. – Интересно. Я играю и пою о людях. Надо будет как-нибудь обменяться: ты – истории, я – аккорды.
Я смеюсь – тихо и невзначай, потому что это предложение звучит скидкой на мир: обмен услугами, обмен вниманием. Ная в это время приходит к нам, махая рукой, и Джеймс кивает ей в знак приветствия. Она обнимает меня как старую подругу и тут же с дружеским напором говорит:
– Иви, смотри, я говорила же, что у тебя классный день! Джеймс – мой лучший друг, и если он предлагает тебе кофе в обмен на историю – бери. Он хороший человек.
Джеймс улыбается, и в его улыбке – приглашение, лёгкое и настоящее. Я соглашаюсь пойти после пары, обещаю Нае улыбнуться и уже в мыслях формулирую вопрос, который, наверное, буду задавать ему позже: как можно быть таким добрым просто так?
Когда мы расходились, Джеймс проводил меня взглядом, который говорил: «до встречи» – и это было в большей степени обещание, чем угроза. Я чувствую, как на душе становится легче: у меня есть тёплое утро, новый знакомый, который не устраивает драмы, и Ная – мотор этой маленькой дружбы.
Но в тени парковки осталось эхо: фыркающее «что-то», которое могло значить как ничего, так и всё. Я повторяю про себя «никто», хотя знаю, что это неправда. Зейн услышал. Я это чувствую по тому, как его плечи, когда он проходил мимо, сжались на мгновение – как будто он положил пазл на полку и запомнил форму. И я понимаю, что это «никто» рано или поздно станет «кто-то», с кем придётся иметь дело – не в тексте, не на бумаге, а в комнате, где мы делим один кухонный стол и одну ванную.
***
Кафе на углу кампуса было именно таким, каким я любила их представлять в своих колонках – немного неловким, с притянутыми к стенам старыми плакатами и лампочками в гирляндах, которые кто-то обязательно забывал выключить. Пол там всегда хрустел от песка – студенты приносили его с пляжа так регулярно, что хозяин бара лениво махал рукой и говорил: «Это добавляет атмосферы». Воздух пах корицей, горячим молоком и чем-то ещё – старой бумагой газеты, которой обкладывали тарелки с печеньем. В такие места приходилось специально, чтобы услышать, как разговаривают люди, и поймать пару фраз, достойных заголовка.
Я зашла, еще держа в руке книжечку с лекциями, и увидела их сразу: Ная махала рукой у столика у окна, а Джеймс рассказывал что-то, раскладывая жестами слова как ноты. Кофе у него в одной руке, блокнот – в другой. Он выглядел человеком, у которого в сумке всегда есть гитара, даже если её там физически нет.
Ная заметила меня раньше, чем я прошла и успела снять куртку, и её лицо стало таким светлым, как будто кто-то заметил, что в мире опять зажглась лампочка.
– Иви! – она подпрыгнула со стула, и звуковая волна её голоса наполнила уголок, где сидели. – Ты пришла! Садись, я за тебя уже заказала корицу, потому что у меня шестая. И у нас есть Джеймс!
– Привет, – сказала я, опуская рюкзак на стул. Внутри всё еще жгло лёгкое напряжение после утренней встречи на стоянке, но вместо обострённой бдительности я почувствовала что-то другое: тепло. Оно, возможно, от корицы, возможно, от того, что Ная умеет создавать тепло как умелый повар – щепотка здесь, ещё щепотка там.
Джеймс встал, как положено, и пожал мне руку так, словно проверял, не отлипнет ли молоко с моих пальцев.
– Иви. – сказал он, и в его голосе было ровно столько восхищения, сколько нужно, чтобы не быть назойливым.
Он усмехнулся и сел обратно. Заказ нам принесли быстро: там был стакан густого кофе с корицей, пирожное, которое пахло как детство, и чашки, которые держали тепло, будто это была мелкая насмешка природы: пить медленно. Мы разговорились легко, как будто у нас уже было несколько тайных соглашений – ты не спрашиваешь о моей детской травме, я не задаю тебе вопросов о прошлом, потому что доверие обреталось не словами, а улыбками и моментами нахождения рядом.
Ная рассказывала про свою короткометражку:
– Это будет про улицы Санта-Моники, про людей, которые проходят мимо друг друга и не замечают, что весь мир – это набор взаимных перекрестков. Я хочу, чтобы это было тепло, но с оттенком тревожности». – она помахала руками, добавила – И, конечно, нужна журналистская хроника – и посмотрела на меня именно с тем выражением, которое говорило: «Ты в деле».
– Я не против, – сказала я, и в словах – нет протокола, только искреннее «да», потому что я действительно хочу что-то делать, что-то, что не будет просто опубликовано в университетской газете и забыто. Я хочу, чтобы это было правдой.
Джеймс кивнул и перевёл взгляд на меня с интересом, который согревал лучше, чем корица.
– Ты пишешь о людях, – сказал он. – Это редкое ремесло – писать не про события, а про то, что между ними. У тебя, по-моему, это получается.
Я хотела ответить так, чтобы не звучать хвастливо, но и не совсем как фуфловая лампочка.
– Я пытаюсь не писать о том, что было, а о том, что есть. Иногда это кажется более важным, чем выяснить, кто был первым.
Он усмехнулся, играя пальцами по чашке, и в этот звук вкралась его лёгкая шутка.
– Значит, у нас обмен: я даю музыку, ты – историю. Вместе мы продаём идею о том, что люди не просто лица в толпе.
– Сделка, – сказал я, и мне понравилось, как слово упало между нами – не громко, но конкретно. Мы обмениваемся: я отдаю ему кусочек наблюдения, он – аккорд, и это звучит почти как обещание.
Флирт у Джеймса был тонким, как штрих карандаша: он не брал меня в оборот, он подводил, аккуратно примерял фразы, проверял реакцию. Иногда такие люди готовы прислониться к тебе словом и посмотреть, не рухнешь ли. Я не рухнула – но и не осталась неподвижной. Было приятно, даже безопасно.
– Ты закончила школу в городе? – поинтересовался он вдруг, и я представила себе, как он складывает прошлое людей, как ноты на парте.
– Да, – ответила я. – Небольшой город, где все знали друг друга в лицо. Иногда знание – это не подарок. Это как ожидание – будто всем всегда известно, какой ты спектакль. – Я улыбнулась, потому что в этом была и ирония, и правда. – А ты?
– Я – человек, который искал гитару там, где оставляли тени, – отозвался он по-поэтичному и тут же добавил: – Вроде бы я родился в Лос-Анджелесе, а вырос там, где море не так видно за пальмами. Но я больше о людях, чем о координатах. – Он смотрел на меня легко, и в его голосе что-то зацепилось за мою стену подозрительности.
Потом разговор плавно повернул к университету, к тому, как мы оба ненавидим одного и того же преподавателя по теории медиа, и к тому, что Ная, конечно, опаздывает на свою съёмку (она сделала глаза, как будто это самая важная вещь в мире), и да – у неё в голове миллион идей, которые как ветки, расползаются по столам.
Я слушала, смеялась, иногда поддавала свой сарказм, и чувствовала, как внутри что-то меняется: мир вокруг не такой уж и маленький, и люди в нём не такие предсказуемые.
Мы обсуждали план: Ная хочет, чтобы я написала небольшой очерк, Джеймс предложил саундтрек – он, кажется, умеет делать это из ничего, а я – из обычных деталей. Мы договорились встретиться вечером, чтобы обсудить концепцию. Я чувствовала себя вовлечённой и радостной; это был тот редкий случай, когда работа и дружба смешивались в приятное тесто.
И в этот момент кто-то за столиком встал и подошёл к нам быстро – так быстро, что я сначала подумала, что это новый официант. Но это был не официант. Это был Зейн.
Он подошёл будто без усилия, с тем самым равнодушным выражением, которое ему так легко давалось: «мне всё равно», «не мешай моему существованию». Но сегодня в его походке было что-то другое – не только нарочитая холодность, а сжатая внимательность.
Он оглядел стол, на котором мы сидели, на меня, на Джеймса, и глаза его задержались на корице, на пирожном, на моём блокноте. Я ощутила, как сердце – это странное животное – сжалось. Я не помню, чтобы хотела убегать, но почувствовала необходимость подсчитать шаги назад и вперёд. Внутри меня сработал релейный сигнал: «не показывать много».
Он наклонился ко мне, тихо, как бы между нами и воздухом, и сказал ровным, почти бытовым тоном, что меня сначала ошарашил своими словами:
– Ты забыла выключить свет. Больше так не делай.
Это была не претензия к музыке и не обвинение в том, что я устроила вечеринку. Это было простое, бытовое: дом – техника – ответственность. И одновременно – как будто он закрыл дверцу шкафа, в который спрятаны не только лампы, но и все наши договорённости. Его голос не поднимался, он не притворялся героем, он просто сделал ремарку и отвернулся, чтобы уйти.
У Наи и Джеймса на лицах сначала было недоумение – как будто в их сценарии сцена выглядела иначе. Ная развернулась, глаза её сверкнули любопытством и раздражением.
– Что-что? – спросила она, будто просила пересказать услышанное.
– Он сказал, что я забыла выключить свет, – ответила я, стараясь держаться ровно.
Слова сами выскользнули, как пластинка, которую кто-то поставил и сделал царапину, и я поняла, что меня сейчас слушает не только тот стол, но и весь мир в немом режиме.
Джеймс наклонился вперёд, сложил локти на стол, и его лицо стало смешно серьёзным.
– Кто он тебе? – спросил он, с той бесхитростной прямотой, что присуща людям, которые в первых двух фразах решают, надо ли защищать нового знакомого.
Я почувствовала, как внутри меня вспыхнуло что-то вроде стыда и старой обиды – странного коктейля, который не желаешь ни с кем делить. Я хотела опять сказать «никто», хотела закрыть этот ящик, который давно заперт, но Ная и Джеймс смотрели так, будто такие ответы их не устраивают.
– Он сосед, – выдавила я, и это слово выглядело неубедительно, и я сама слышала это. – Просто сосед. Мы живём в одной квартире, но отдельно. – Перевела дыхание. – Всё нормально.
Ная покраснела от озорства и хлопнула ладонью по столу.
– «Просто сосед» – это мой новый любимый жанр. Ты должна рассказать мне всю драму. – она уже начала придумывать опереточные сценки в уме, а это значит, что скоро она будет действовать – а у Наи были гениальные способы действовать.
Джеймс же улыбнулся – не издевательски, а по-защитному.
– Если он сказал про свет, значит заботится о бытовых мелочах. Это плюс, – произнёс он философски. – Люди, которые замечают, что выключен свет, бывают полезными. Но скажи честно – он строг? Суровый? Или просто ворчливый?
Я усмехнулась и задумалась.
– Он… он строг в правилах, – сказала я. – У него есть свои регламенты: не трогай мои вещи, не звони не по делу, не мешай макетам. Но он и добр иногда, – я почувствовала, как предательски теплеет мне в груди от этой мысли. Да, он и добр. Но добрость – это такая вещь, которую легко спрятать.