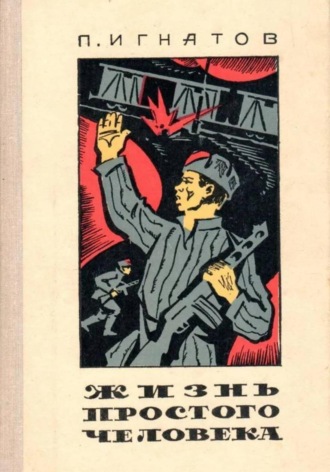
Полная версия
Жизнь простого человека
и что самое страшное – когда у них нет работы.
Отец мой был родом из крестьян бывшей Смоленской губернии. Семья была большая:
девять братьев.
Случалось, сидя со мной и матерью за обедом, отец, чуть посмеиваясь, вспоминал, как в его
родной деревне садились за стол одни мужики, а бабы обедали стоя – тянулись своими ложками
к миске со щами через головы и плечи мужей и братьев. Мать, хоть и понимала, что отец
поддразнивает её, возмущалась.
– Ты это к чему же вспоминаешь? – спрашивала она, переставая есть и хмуря брови. – Мало
ли чудили в старину!.. Или хочешь, чтобы я обедала стоя?
Отец молча усмехался в бороду, хитро подмигивал мне…
Сравнительным достатком семья отца пользовалась при жизни моего деда. Когда дед умер,
в семье пошли ссоры, раздоры, семья разделилась, оскудела. Отца, которому в то время едва
минуло одиннадцать лет, отдали кулаку в пастухи. Не стерпев лихой, голодной жизни, мальчик
сбежал от кулака, добрался пешком до Киева, о котором слыхал от странников и богомольцев
как о райском месте, где текут молочные реки в кисельных берегах. Но и в Киеве, конечно, жизнь
оказалась несладкой. Начались тяжёлые, долгие годы ученья в кустарных мастерских, на
лесопилках, фабриках – многострадальный путь мальчика-ученика, которого не бил разве что
ленивый. Отец крепился, терпел. Страшнее всего было для него вернуться в голодную, нищую
деревню, где нет ни земли, ни хлеба, ни работы. К двадцати годам он стал неплохим машинистом-
механиком, но жизнь как была, так и осталась для него злой мачехой. Тут прослышал он, что
рабочий человек всегда найдёт себе работу в далёком Питере. С узелком за плечами отправился
он в северную столицу.
Здесь отец встретился с моей матерью, тогда молоденькой девушкой. Он пришёл на
заработки с юга, она – с севера, из Вологодской губернии, нанялась к «господам» в прислуги. Не
знаю, где и как они встретились, но, и повенчавшись, жили врозь: он – в «углах» на рабочей
окраине, она – у своих «господ». Эти самые «господа» прогнали мать, узнав, что она ждёт
ребёнка. Она перебралась к мужу. Ребёнок вскоре умер. Мать чахла от тоски.
Вот тогда-то отец и надумал податься с молодой женой в Донбасс, в тот самый шахтёрский
посёлок, в котором мне было суждено появиться на свет.
Отец много скитался на своём веку – перекочёвывал то с юга на север, то с севера на юг.
Объяснялось это не только вынужденными поисками работы, не только постоянным
стремлением вырваться из тисков нужды, но и неуживчивым, непокорным характером отца, не
умевшего, да и не желавшего безропотно подчиняться хозяйскому произволу.
Хозяева, у которых ему доводилось работать, ценили отца за его отличное мастерство – он
был механиком высокой квалификации, – но не раз получал он расчёт за «дерзость», за
«смутьянство» и вынужден был снова пускаться в далёкий путь в поисках заработка.
Не ужился он и в Донбассе. Мне было года два, когда его уволили за участие в
«беспорядках», как называли тогда протест рабочих, доведённых до отчаяния невыносимыми
условиями труда, произволом мастеров, штрафами, беспросветной нищетой.
На этот раз отец решил попытать счастья на Кавказе.
2
В те времена кавказское побережье ещё только «обживалось», осваивалось.
Предприимчивые капиталисты за бесценок скупали землю, разводили виноградники, фруктовые
сады, табачные плантации, строили на побережье роскошные дачи, – рабочие руки были нужны.
Сборы были недолгими: собирать-то было нечего!.. И вот мои родители тронулись вместе
со мной в далёкий путь.
Железная дорога доходила тогда только до Ростова-на-Дону. Дальше можно было
передвигаться, смотря по средствам, или на лошадях, что было дорого, или по способу пешего
хождения. Этот способ и избрали отец с матерью. Переправившись через Дон, они двинулись
потихоньку берегом Азовского моря к Чёрному и дальше, вдоль по черноморскому побережью,
к Сухуми.
Глядя теперь на карту и прослеживая этот их путь, я, признаться, удивляюсь, как могли они
пройти сотни километров, да ещё с малышом на руках, со скарбом, хоть и самым скудным, за
плечами! Шли, конечно, очень медленно, подыскивая попутчиков. Подолгу останавливались в
приморских городках и селениях, чтобы заработать на хлеб. Но всё же шли и шли – всё дальше
и дальше к югу. Азов, Ейск, Темрюк… Белые пески, прибрежные станицы, тонущие в фруктовых
садах. Чёрные, просмоленные лодки, перевёрнутые вверх днищем, рыболовные сети, растянутые
для просушки… И вот уже низменные берега Азовского моря сменяются предгорьями
Кавказского хребта, которые, начиная с Новороссийска, всё ближе подходят к морю…
Нелёгок был долгий путь. Но помню, как много лет спустя мать всегда с какой-то
трогательной грустью вспоминала об этом путешествии, как о далёкой и счастливой поре своей
молодости, вольной жизни под южным небом у тёплого моря.
Должно быть, все трудности, все невзгоды пути скрашивались молодостью и любовью.
Отец с матерью горячо любили друг друга и прожили жизнь хорошо, дружно. Вот только жизнь-
то у них была тяжёлой, беспросветной – задавленная нуждой жизнь русских рабочих того
времени. А здесь, на пустынном солнечном берегу моря, эта горькая жизнь хоть на короткое
время выпустила их из своих цепких лап. Здесь, перед лицом щедрой природы, они были одни
со своей любовью, с верой в будущее.
Хорошо, радостно было им! Рука об руку шли два молодых человека в поисках своего
счастья. Справа от них плескалось, шумело море. Прошли Новороссийск, Геленджик. Южная
природа открывалась перед ними во всей своей пышной красе. Туапсе, Сочи и, наконец, в густой
зелени буковых лесов, покрывающих волнистым плащом приморские горы, за рядами тёмных,
стройных кипарисов и серебристыми рощами маслин перед ними матово блеснули купола
знаменитого Ново-Афонского монастыря.
В монастырь отец и мать пришли с толпою богомольцев. Но привело их сюда не
религиозное чувство – хотелось передохнуть после тяжёлого пути, узнать у бывалых людей, как
живётся рабочему человеку в здешних местах.
Отцу вскоре удалось устроиться машинистом на водокачку в садоводстве генерала
Гайдебурова, где главной статьёй дохода были огромные плантации роз, из лепестков которых
вырабатывалось драгоценное розовое масло.
Потом отец стал работать на городской водокачке в Сухуми, помещавшейся возле
живописных, заросших ежевикой и плющом развалин старинной генуэзской крепости, у самого
берега моря.
Море!.. С его неоглядным простором, с далёким парусом рыбачьей лодки, то ласковое, то
грозное, оно – самое сильное, самое яркое впечатление моего раннего детства.
Бывало, только проснёшься утром, ещё и глаза не раскроешь, а уже чувствуешь его
присутствие.
Так и кажется, что море где-то здесь, совсем близко. Слышишь его немолчный (не
затихающий. – Прим. ред.) говор у прибрежных камней. В окно, надувая парусом занавеску,
врывается его солёное, свежее дыхание. А раскроешь глаза, глянешь в окно – и видишь: вот оно!..
Море!.. И всегда оно манит, зовёт, никогда не может наскучить – расстилается ли оно вот так,
как сегодня, голубым покрывалом, сливаясь вдали с таким же голубым небом, грохочет ли оно в
дни осенних штормов, грозное, устрашающее, с яростью обрушивая на берег мутные, гривастые
валы.
…Отчётливо помню сухумскую бухту, полумесяцем вдававшуюся в берег, окаймлённую
снежно-белым кружевом прибоя, ослепительно сверкающую в лучах южного солнца. Помню
синий полог неба над бухтой – ни пушинки, ни облачка на нём!
Хорошо было, поджарившись на горячем песке, вместе с ватагой загоревших до черноты
ребятишек с криками и визгом бросаться в тёплую зеленоватую воду, такую прозрачную, что
виден каждый камешек на дне, каждая рыбка, мелькнувшая серебряной стрелкой. Стараясь не
отставать от старших ребят, я научился плавать и нырять и целыми днями пропадал у моря. Мать,
бывало, насилу дозовётся домой обедать…
На каменистых склонах окрестных гор, да и в самом городе было много виноградников. За
обедом обязательно пили дешёвое кисленькое вино: считалось, что оно предохраняет от малярии,
тогда особенно свирепствовавшей на Черноморье.
В городе, тихом, сонном, совсем не похожем на тот красавец город, каким мы знаем Сухуми
теперь, не было пристани. Был только причал для неуклюжих, тяжёлых фелюг (небольшое
палубное судно с косыми парусами в форме треугольника со срезанным углом. – Прим. ред.) с
заплатанными парусами. Фелюги перевозили немногочисленных пассажиров и грузы – в том
числе большие бочки с вином – на пароходы, останавливавшиеся на рейде, чуть ли не в
километре от берега.
Случалось, что пароходы не приходили вовремя, и тогда на берегу, у причала, скапливалось
много бочек с вином. От них шёл густой запах перебродившего, согретого солнцем винограда.
Грузчики, похожие в своих пёстрых лохмотьях и ярких повязках на головах на пиратов,
загорелые, весёлые, горластые молодцы, силой и удалью которых восхищались все портовые
мальчишки, посылали нас, ребятишек, в бакалейную лавочку за макаронами. Выбив у бочек
деревянные пробки, они тайком пробовали, какое вино лучше, потягивая его через макароны, как
через соломинку…
Стоило появиться в городе морякам с какого-нибудь парохода, бросившего якорь на рейде,
и наши мальчишеские сердца принадлежали им, и только им! Восторженной, почтительно-
молчаливой стайкой сопровождали мы моряков на базар и в лавчонки, в которые они
заглядывали от нечего делать, лениво прицениваясь к совершенно ненужным им чувякам (мягкая
кожаная обувь без каблуков. – Прим. ред.), зеркальцам, рамочкам из ракушек. Мы стояли в
почётном карауле у дверей и окон кабачков, в которых они шумно и весело гуляли по вечерам на
гроши, заработанные тяжёлым трудом. А если в порту начиналась потасовка между матросами и
грузчиками, мы всегда брали сторону первых.
В наших глазах моряки в полосатых тельняшках, видневшихся из-под распахнутых на
широкой груди курток или роб, с загорелыми лицами, сильными руками, шагавшие не торопясь,
вразвалку, посередине улицы, были необыкновенными людьми. Они вносили в тихую,
однообразную жизнь города волнующую романтику дальних странствий по морям и океанам к
берегам сказочных стран, и не было среди нас такого мальчугана, который не хотел бы в то время
быть моряком!
А как ещё любили мы, мальчишки, по вечерам, когда медно-красный шар солнца низко
висел над бледно-голубым, исчерченным белыми полосами течений морем, помогать рыбакам
вытаскивать на берег сети, полные бьющейся на прибрежной гальке рыбы, сверкающей то
тёмной бронзой, то светлым струящимся серебром, то голубой эмалью.
Чего только не бывало в мокрых тяжёлых сетях! И огромные студенистые медузы с
лиловыми полосами по краям, и тонкие, как змейки, морские иглы, и уродливые скаты с
драконьими хвостами, усыпанными острыми шипами, и розовато-серебристые султанки, и
плоская, как большое блюдо, камбала.
День угасал.
Солнце, брызнув зелёным лучом, скрывалось в море. Быстро опускались тёплые сумерки.
Одуряюще благоухали олеандровые кусты, осыпанные розовыми цветами. Глаза слипались,
голову неудержимо клонило к подушке. А завтра… завтра должен был начаться опять такой же
длинный, солнечный, горячий день.
Жизнь в Сухуми была едва ли не самой светлой порой моего раннего детства.
За свою работу отец получал гроши, которых с трудом хватало, чтобы кое-как
прокормиться даже нашей маленькой семье. Но ведь я тогда не знал никаких забот и был
совершенно доволен привольной жизнью у тёплого синего моря.
Первые яркие впечатления детства надолго сохраняются в памяти, – до сих пор люблю я
море, южное солнце. Позднее, в отроческом возрасте, – об этом расскажу дальше, – с морем у
меня на всю жизнь связалось представление о свободе, о героической борьбе за свободу, и оно,
море, навсегда стало для меня как бы символом борьбы и свободы…
Однажды утром почтальон принёс нам письмо.
Отца не было дома, он чуть свет уходил на работу. Мать только что растопила печку в
летней кухоньке на дворе. Она вытерла руки о фартук и так бережно взяла у почтальона голубой
конверт, словно он был стеклянный и легко мог разбиться от неосторожности прикосновения.
Письма нечасто приходили в наш белый домик, приютившийся у самого моря в кустах
олеандров и жимолости, густо переплетённых ежевикой. Стоя на крыльце, мать с тревожным
любопытством смотрела на конверт, прилетевший сюда, в приморский городок, из неведомого
далёко. Губы её шевелились, когда она читала про себя наш адрес, имя и фамилию отца,
выведенные на конверте крупными, неровными буквами рукою, не привыкшей держать перо.
– Наверно, из Петербурга, – проговорила мать. – От кого бы это? Ох, господи! – Она
вздохнула, покачала головой. – Сбегай, сынок, к отцу, снеси письмо, только смотри не оброни по
дороге… Ну, беги да возвращайся поживей!
Я сунул письмо за пазуху, на голое тело, и со всех ног кинулся выполнять поручение.
Отец сердился, когда я без дела приходил к нему на работу. А для меня не было большего
удовольствия как побывать на водокачке, посмотреть на работу машины, казавшейся мне живым
существом, сопящим, ворчащим, пышущим жаром, двигающим огромными, сверкающими
начищенной медью ручищами, могучим и злым и всё-таки покорным воле спокойного
молчаливого человека с русой курчавящейся бородкой и загорелым лицом, моего отца.
Вот это удача! И на водокачке побываю и узнаю, что в письме написано!..
Отец вышел на мой зов из помещения водокачки, присел на скамью под раскидистым
ореховым деревом, посмотрел для чего-то конверт на свет и неторопливо распечатал его.
За кирпичной стеной слышался ритмический, глухой шум. Из распахнутой двери тянуло
запахом машинного масла и разогретого металла. Но сейчас всё это мало занимало меня. Я не
отрывал глаз от небольшого листка бумаги, который отец, задумавшись, держал в руке. Вот он
сложил листок, сунул его в конверт, а конверт спрятал в карман. Потом встал, потянулся.
Неожиданно его сильные руки подхватили меня, подняли с земли.
– А ну, что скажешь, морской житель, если мы в Питер поедем, а?
И, не дожидаясь моего ответа, опустил меня на землю, ласково хлопнул по спине и сказал:
– Беги, скажи матери, что письмо от Матвея Кузовкина. Зовёт нас в Петербург… Понял? В
Пе-тер-бург.
Мать ничего не сказала, когда я передал ей слова отца. Но я почувствовал, что предложение
неизвестного мне Кузовкина ей не по душе.
Стал я приставать к ней с расспросами: далеко ли этот самый Петербург, какой он, хорошо
ли в нём?
– Хорошего мало, – коротко и грустно ответила она. – Мы с отцом немало там горюшка
хлебнули… Впрочем, нашему брату везде радости мало!.. А здесь хоть тепло, о дровах заботы
нет, – добавила она.
Я побежал к морю, где уже давно с визгом и криками плескалась в воде шумная ватага моих
приятелей. Начал было хвастать: вот, мол, еду в Петербург! Но один мальчик, постарше, сказал,
что он ни за что не поехал бы в Петербург, потому что там моря нет. Как это нет моря? Это
сообщение ошеломило меня. Как же можно жить без моря?
– Врёшь ты всё! – крикнул я. – Море везде есть! – И, словно боясь, что меня разлучат с
морем, бросился головой вперёд в прозрачную зеленоватую воду.
В полдень отец пришёл домой на обед. Отец с матерью никогда не ссорились, а тут вышел
у них спор. Отец, видно, всё уже обдумал и решил ехать. А мать не соглашалась. Она говорила
про какую-то синицу в руках и про журавля в небе. Потом – про кукушку, которую нечего менять
на ястреба. Я не понимал, почему мать вспоминает всех этих птиц, но у меня невольно тоскливо
сжалось сердце, когда она с грустью сказала:
– Разве нам здесь плохо! И домик отдельный, и огород, и… – она посмотрела в окно, –
море… Да и ему здесь вольготней. – Она кивнула головой в мою сторону.
Отец доказывал, что она мало что понимает и дальше печки да корыта ничего не видит. Он
прочитал вслух письмо, в котором его товарищ – этот самый Кузовкин – рассказывал, что в
Петербурге строится много новых фабрик, заводов, что на них можно получить хорошую работу,
и звал отца приехать.
Вот отец и загорелся желанием снова «попытать счастья», а уж если он вбивал себе что-
нибудь в голову, то переубедить его было нелегко.
Видя, что мать огорчена, он ласково обнял её за плечи.
– Ты пойми, – негромко сказал он, заглядывая ей в глаза, – не могу я здесь, тошно мне!..
Живём, как в берлоге, ничего не видим, ни людей, ни света. Стосковался я, мать, без настоящих
людей, без товарищей… Душа болит, как подумаю, что другие живут дружной семьёй, заняты
одним делом. Трудно им, а всё-таки они вместе, друг за дружку стоят… А я? – Отец махнул
рукой, отвернулся, отошёл к окну.
Мать всплакнула, уезжая из Сухуми, да и я, помнится, пустил слезу.
Один отец радовался отъезду. Теперь я понимаю, что его, отличного мастера, человека
беспокойной души, не могла не тяготить однообразная, скучная работа на маленькой водокачке.
Тяжело было ему и положение одиночки, он всегда стремился к людям, к товарищам.
– Ну, что пригорюнились? – спросил он, обращаясь ко мне и матери, когда наши пожитки,
оставшиеся после распродажи, были уложены на повозку. – Небось, не на край света едем, а в
столицу! – И, видя, что жизнь в столице мало привлекает нас, добавил: – Питер – самый что ни
на есть рабочий город!.. Не пропадём!
В последний раз забежал я в наш маленький домик, казавшийся осиротевшим и
заброшенным, после того как из него вынесли все вещи. Из окна, на котором уже не было
пёстренькой занавески, надувавшейся, как парус, я увидел море.
Дул сильный ветер. Белые барашки, догоняя друг друга, бежали по синему морскому
простору…
3
Расплющив нос о запотевшее, покрытое с наружной стороны растекающимися каплями
дождя стекло вагонного окна, я смотрел со смешанным чувством страха и любопытства на нечто
громадное, туманное и серое, что постепенно раскрывалось передо мной и что называлось одним,
не по-русски звучащим словом: Петербург.
Бесконечные заборы, кирпичные стены, трубы и крыши, крыши, крыши, уходящие в
мутную, клубящуюся мглу. И, казалось, нет конца и края этим стенам, трубам, крышам. А дождь
всё идёт, идёт, и капли его, сдуваемые ветром, бороздят поверхность оконного стекла…
В вагоне, переполненном людьми, холодно, темно, несмотря на то что до вечера ещё далеко.
Паровоз гудит протяжно, уныло…
В Петербург мы приехали в ненастный осенний день почти без копейки денег. Переезд из
Сухуми в северную столицу стоил дорого. Отцу с матерью, чтобы собрать денег на дорогу,
пришлось распродать все вещи, оставив только самую необходимую одежонку.
Меня, помню, поразили разноголосый, оглушающий шум и движение огромного города,
его широкие улицы, проспекты, высокие, многоэтажные дома, каких я никогда ещё не видел. С
тоской думал я о том, как не похоже здесь всё на тёплый светлый юг. Низкое свинцовое небо,
нудный дождь, пронизывающий холод, сырость. Всё какое-то серое, бесцветное, угрюмое. Да и
люди здесь словно другие – бледные, хмурые, озабоченные…
Мельком видел я красивые центральные улицы города. Петербург старинных дворцов,
похожих на театральные декорации, гранитных набережных, широких, нарядных проспектов с
зеркальными витринами богатых магазинов, великолепных садов и парков был не нашим
Петербургом.
Наш Петербург был другим: грязным, уродливым, тесным, нищим. Поселились мы в
фабричном районе, в мрачном, как тюрьма, кирпичном доме, на необычайно унылой, без единого
деревца, грязной улице.
За рядами бедных, покосившихся домишек тянулись серые заборы, пустыри с грудами
мусора и шлака, с зловонными, никогда не просыхающими лужами, закопчённые корпуса фабрик
и заводов. Там, в этих корпусах, что-то гудело, громыхало, лязгало. Утром, на рассвете, когда
было особенно темно и уныло, меня будили пронзительные, хриплые гудки. По вечерам окна
фабрик зловеще светились тусклыми жёлтыми огнями.
Воздух, здесь был пропитан гарью и копотью, летящей из высоких труб, запахами нефти,
краски, угля. И жизнь здесь была такой же унылой, однообразной, безрадостной, как эти серые
заборы, грязные пустыри, закопчённые корпуса – тёмная, нищая жизнь.
Чуть ли не на каждом углу в этом царстве мрака и нищеты был кабак, гремевший по вечерам
пьяными голосами. Истомлённые непосильным трудом и нищетой, люди пропивали здесь
последние гроши, стараясь хоть на короткий срок забыться, уйти от страшной жизни.
Отец и мать тоже стали словно другими, такими же хмурыми, озабоченными, как все
окружавшие нас люди. Редко видел я теперь на их лицах улыбку. По вечерам отец часами сидел
за столом, подперев голову рукой, и молчал, молчал, глядя на огонь керосиновой лампочки.
Мать, ничего не говоря ему, начинала порой тихонько плакать, стараясь скрыть от нас свои слёзы.
Отец хмурился, вид у него был смущённый, виноватый, и мне было жалко и его и мать и тоже
хотелось плакать.
Очень тоскливо жилось мне здесь. Товарищей у меня не было. Мальчишек, с которыми я
встречался на дворе или на улице, я боялся: они были озорные, злые, задиристые, как молодые
петушки. Игры их казались мне непонятными, неинтересными. Вечером, забравшись в холодную
постель и укрывшись с головой, с тоской вспоминал я море, солнце…
Отцу долго не везло с устройством на работу, он перебивался мелкой подёнщиной.
Случалось порой, что у нас и хлеба-то вдоволь не было, ложились спать голодными. Мать стала
ходить стирать по домам. Оставлять меня дома одного она боялась и часто брала с собой.
На всю жизнь запомнились мне полутёмные подвалы с затянутыми паутиной, пыльными
окошками, с низкими сводчатыми потолками, с которых капала вода. В этих подвалах работала
мать.
Я помогал ей как мог и умел – колол дрова, щепал лучину для растопки, таскал воду. В
свободное время, особенно если на дворе было холодно, сидел у дымящей открытой топки печи,
в которую был вмазан котёл для кипячения белья, дремал в углу, на узлах с нестираным бельём,
или смотрел на мать, согнувшуюся в облаках пара над корытом. Молча следил я за тем, как
быстро мелькают в белой мыльной пене её сильные смуглые руки, ещё не утратившие южного
загара. Мне почему-то становилось за неё обидно. Я закрывал глаза и представлял себе мать
совсем другой: весёлой, смеющейся, в белой косынке, стоящей на берегу синего моря и машущей
мне рукой…
Когда мать уставала, она вытирала руки о передник, садилась рядом со мной, развязывала
чистый платок, доставала хлеб, селёдку, луковку. Мы ели, вспоминали о жизни на юге, о котором
она тосковала не меньше меня. Лицо её светлело. Она улыбалась, словно не было над нами
низкого сводчатого потолка, словно не было корыта с мыльной водой, узлов белья… Щемящая
жалость поднималась во мне. Бедная мама! Мне хотелось помочь ей.
Я уже понимал, что каждый человек должен трудиться, чтобы заработать себе на хлеб, и

