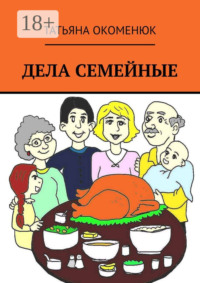Полная версия
Психуля
– Я больше не буду! – заблажила Юлька, услышав знакомое оскорбление, и тут же бросила через плечо пакет с конфетами. – Киса, подавись!
Киса, как заправская волейболистка, прямо в воздухе поймала свои конфеты и, прижав их к груди, затопталась на месте, не зная, что делать дальше. Ее широко распахнутые глаза выражали полное удовлетворение исходом инцидента. По девушке, все еще не верящей своему счастью, было видно, что для нее подобные истории не всегда заканчиваются столь благополучно.
– Чего ты, Малашко, больше не будешь? – поинтересовался Левинзон у барышни.
– Брать Кисины конфеты, – нахохлилась Юлька.
– И это все? – поднял он вверх левую бровь. – Только что ты нарушила сразу несколько правил поведения в больнице, хотя обещала мне вести себя прилично.
Малашко наморщила свой лоб, ее одутловатое лицо стало свекловично-багровым, маленькие глазки-пуговки захлопали ресницами, как у поломанной куклы. Девушка напряженно молчала.
– Ты, Юля, вышла из палаты без халата, в полном неглиже – это раз, – кивнул он на ее выпирающие сквозь пижаму соски размером с желуди. – Выскочила в коридор босиком, что строго запрещено даже в жаркое время года – это два. Ты зашла в чужую палату – это три. Забрала у Лены Киселевой ее передачу – это четыре. Вчера своей выходкой напугала врача по лечебной физкультуре – это пять. Отказалась идти на занятия по трудовой терапии – это шесть. Позавчера собрала все огрызки из мусорных ящиков и съела их – это семь. Так что, не обессудь…
Малек опустила голову вниз и завыла на весь этаж, как заводской гудок в день забастовки. Вера Глебовна положила ей руку на плечо. Юлька штопором завертелась вокруг своей оси, стараясь освободиться от железных объятий старшей медсестры. Не вышло – прямо через пижаму Санина засадила ей укольчик в бедро. Девушка дернулась и стала медленно оседать на пол. Вера Глебовна подхватила ее и под руки и потащила в палату.
Видимо, на моем лице отразился такой ужас, что Левинзон не выдержал и расхохотался.
– Отомрите, доктор! Это – незначительный эпизод наших трудовых будней. Как сказал поэт:
Здесь врачи – узурпаторы,Злые, как аллигаторы!Персонал – то есть нянечки —Запирают в предбанничке.Бьют и вяжут, как веники, —Правда, мы – шизофреники3.И тут мы оба заметили все еще топчущуюся рядом с нами Лену Киселеву. Девушка ростом с белку, с курносым носом и светлыми жидкими волосиками, смотрела на меня с тихим обожанием, как смотрят подростки на своих музыкальных кумиров. На ее пухлых, почти детских, губках блуждала похотливая улыбка. – На! – протянула она мне свой пакет с конфетами. – Это – тебе! Ты такой хорошенький…
Я бросил панический взгляд на Михаила Борисовича. Тот отрицательно покачал головой.
– Спасибо, Лена, но я не ем сладкого, – выставил я перед собой ладони. – Ешь сама!
Но было уже поздно. Киселева заинтересовалась мной не на шутку. Она подошла ко мне вплотную, подпрыгнула и, уцепившись за мою шею, повисла на ней, как обезьяна на лиане. Сказать, что я испугался – ничего не сказать. Я чуть не обмочился со страху.
– Пойдем в мою кроватку, – проворковала девушка. – Ты такой классный!
– Настоящей Кисе и в октябре – март, – развел руками Левинсон.
– Это еще что такое, Киселева?! – взревела подоспевшая на помощь Санина. – На «вязки» хочешь в надзорную палату или уколом обойдемся?
Услышав перечисление штрафных санкций, Лена разомкнула руки и брякнулась на пол. Пакет порвался, и шоколадные конфеты рассыпались по линолеуму. Девушка посмотрела на них и горько зарыдала.
– Чего мычишь недоеной коровой? – разозлилась на нее Вера Глебовна. – Собирай свое добро и шагом марш в койку! Не мешай доктору работать.
И уже, обращаясь ко мне:
– А вы, Андрей эээ… Владимирович, набросьте пока на плечи мой халатик, иначе сегодня наши девки проходу вам не дадут.
Я послушно выполнил команду, провожая взглядом удаляющуюся в палату Лену. На вопросительный взгляд Саниной Левинзон отреагировал легким кивком головы, и та последовала за Киселевой.
– Что это было? – поинтересовался я у психиатра.
– Дело в том, что у олигофренов поражена только психика, а животные инстинкты срабатывают, как у нормальных людей. Лекарства, которые она принимает, провоцируют повышенный сексуальный интерес к противоположному полу. Для таких случаев у нас предусмотрены специальные успокаивающие препараты, и сейчас самое время их применить. Киса, как она сама себя называет, здесь не одна такая. Треть наших молодых пациенток цепляется к каждому встречному мужчине.
– И к вам тоже?
– Ко мне – нет, – засмеялся психиатр. – Во-первых, я – старый и не такой красавчик, как вы. А, во-вторых, они рассматривают меня как начальника, который может их наказать. С пациентами, доктор, следует держать дистанцию. Однако показывать им свой страх ни в коем случае нельзя. Засим, я с вами прощаюсь. Через десять минут у меня – заседание экспертной комиссии по вопросу ограничений трудовой деятельности наших пациентов. Передаю вас в заботливые руки ээээ…
И тут из столовой вышла невысокая сухопарая бабулька в голубом медицинском костюмчике и такой же голубой шапочке, которые шли ей, как корове седло. В руках у нее были ведро с грязной водой и швабра.
– Натопчут-натопчут, сороконожки вальтанутые, наблюют, накидают хлеба под стол, – ворчала она себе под нос, – но чтоб насрать в ведро с тряпками для вытирания обеденных столов, это даже для дурдома – зашквар.
– Вооот, Андрей Владимирович, передаю вас в надежные руки нашего ветерана труда баб… Прасковьи Егоровны Сургучевой, которая работает в отделении дольше всех нас. Она вам все расскажет, покажет и ответит на вопросы.
– Баба Паша, – протянула мне руку женщина, сняв резиновую перчатку. – А вы, значит, тот самый новый неженатый терапевт, о котором нам говорила кадровичка? Хорош красавчик – не соврала Нинка.
– Чаусов, – пожал я ее усыпанную пигментными пятнами руку, не уставая удивляться бесцеремонности младшего медперсонала отделения, который мало чем отличался от пациенток.
– Кстати, Егоровна, – вернулся к нам от двери Левинзон, – что там утром произошло со Стахневич?
– Ничего нового, – вздохнула санитарка, опершись на швабру. – Она, конечно, шустрая, как вода в унитазе, но мы с Галкой таки справились с ней… с помощью укола, вязки и известной матери.
– Чьей матери? – метнул он взгляд в мою сторону, давая понять подчиненной, что они здесь не одни.
– Божьей, Михал Борисыч! – перекрестилась баба Паша. – Исключительно божьей.
А мне пояснила:
– У нас тут такая Стахневич отдыхает с биполярочкой. Бросается на людей, называя себя Амазонкой, а когда туман в башке рассеивается, она снова спокойна, адекватна и зовут ее Маша. О произошедшем ничего не помнит, о существовании своей альтернативной личности понятия не имеет. Приличная пятидесятилетняя тетя. Всем помогает, со всеми ласкова и дружелюбна. До тех пор, пока ее снова не перемкнет. Сегодня утром у нее опять вышибло пробки, и Амазонка вырвала клок волос с головы своей соседки – наркоманки Ларки Пушковой. Та ей дала сдачи – началась драка. Пушкова стала переворачивать тумбочки, биться головой о стену. Пришлось пойти на крайние меры. Лежат сейчас обе «на вязках», как египетские мумии.
– А чем вы их связываете?
– Смирительных рубашек уже давно нет. Для фиксации применяем мягкие широкие ленты, накладывающиеся на конечности. Делаем это строго по назначению врача с обязательной отметкой в истории болезни. Как правило, при этом сестра ставит укол для купирования приступа возбуждения. После того, как пациентка окончательно успокаивается, мы ее освобождаем от стеснения.
Ладно, пошли отседова в столовку, там тихо и спокойно – у нас сейчас мертвый час.
Я послушно потопал следом за санитаркой.
3
– Нет, ну ты и правда красавчик, – зацокала она языком. – Почти, как мой внучок Андрюха – он тебе ровесник, после армии пошел учиться на учителя истории. Хотя нет, ты красивше, потому как – в теле. А мой дрыщ бухенвальдский за этой шваброй спрятаться может. Я ему и печеньки пеку, и двести рублей на столовую выдаю… Надо бы четыреста, чтоб он там комплексный обед мог взять, но не получается – я ему на учебу термос с супом снаряжаю… Кстати, ты есть хочешь?
– Нууу… Коли доктор сыт, так и больному легче, – изрек я свою любимую цитату из «Формулы любви», тем более что с утра, кроме чашки кофе и тоста, намазанного лимонным джемом, ничего во рту не держал.
– Значит, хочешь, – заключила баба Паша, не знакомая с этим шедевром советского кинематографа. – Иди, садись вооон за тот столик, у кулера. А я пока сбегаю, инвентарь отнесу и переоденусь. Нельзя нам ходить по отделению в том, в чем мы уборку делали. Если Санина увидит, такой крик поднимет… У нас ее за голос Иерихонской Трубой называют. Когда Верка орет, в больнице все стекла дребезжат.
Уходя, женщина постучала костяшками пальцев в закрытое «окошко выдачи». Металлическая створка отъехала в сторону и в проеме показалась девичья голова в белом поварском колпаке.
– Это ты, баб Паш? – сонно протянула конопатая, как кукушиное яйцо, барышня. – Я уже думала кто-то из придурочных шалит, даже скалку в руки взяла.
– Варь, покорми нашего нового доктора Андрюшу…
– Владимировича, – поспешно вставил я. Не хватало еще, чтобы, вслед за бабой Пашей, весь младший медперсонал стал со мной фамильярничать.
Буфетчица растянула толстые губы в очаровательной, как ей казалось, улыбке.
– И че доктору подать? – поинтересовалась она, кокетливо сверкнув золотым зубом.
– Чего-то съедобного, Варь, – повысила голос санитарка, – а не твои обычные помои.
Улыбка барышни затекла и села на клей.
– Конкретнее, – обиженно надулась она.
– Ну, запеканку из вчерашних макарон – в утиль. Гречку, похожую на куриный помет, – туда же… Дай доктору творожный пудинг, побольше салатика, и курицу. Только курицу, Варь, а не ее кожу и кости. Компот? Неее, доця. Налей соку, но не апельсинового из порошка, а яблочного.
Пока баба Паша переодевалась в белый халат и косынку, а Варя готовила заказ, я осмотрелся по сторонам. Везде чистенько, шесть столов с пятью стульями у каждого. Стало быть, одновременно тут трапезничают тридцать человек. На двух больших окнах – декоративные решетки, на стенах – картины с пейзажами. В углу – кулер с пирамидой пластиковых стаканчиков. Рядом – холодильник для хранения продуктовых передач. На потолке – лампы дневного освещения. Для психбольницы неплохо. Если бы не «запах китобойного судна», проникающий из коридора в столовую, можно было бы сказать, что это – вполне приятное место…
Мои мысли прервало появление переодетой бабы Паши с подносом.
– Не удивляйся, сынок, – кивнула она принесенное. – Вся посуда у нас металлическая – чтоб не выковыривать из идиоток куски разбитых тарелок. Ножей и вилок тоже нет – только ложки. Да и последние после каждого приема пищи мы тщательно пересчитываем. Если хоть одной не хватает, перерываем все тумбочки и матрацы. Иначе больная может этой ложкой открыть процедурную и нажраться таблеток. Такие дела… Ладно, кушай, на здоровье, а я вместе с тобой посижу.
И салат, и мясо, и пудинг оказались вполне съедобными, вот только все это есть ложкой – еще тот квест.
– Здесь что, порции крохотные? – поинтересовался я, пытаясь разделить на части кусок курятины. – Почему пациентки собирают по мусорникам огрызки?
– Дуры, что с них взять? – вздохнула баба Паша. – Лазить по мусорным корзинам – их любимая забава. Тут же нечем больше заняться. Одни очистки жрут, другие приносят из уборной использованную туалетную бумагу и раскладывают ее прямо на обеденном столе, третьи запихивают в рот все второе разом и давятся – так что, нам все время надо быть начеку, чтобы вовремя выбить из их глотки застрявший там кусок…
А если честно, то, конечно не наедаются. Порции средние, но еда невкусная – стандартное больничное хрючево. Изо дня в день – одно и то же. Финансирование урезали, поэтому питание выглядит примерно так: утром – каша и бутерброд, в обед – суп без мяса и какой-то гарнир с овощами или рыбой. В полдник – фрукты и шиповниковый настой. На ужин – запеканка из манки или макароны с куриной шкурой. Это тебе не частный пансион, где работает моя племяха. Там у них – борщи, птица с рыбой, салаты сытные, йогурты, фрукты, соки. А у нас вся надежда – на передачи родственников, которые появляются здесь не чаще раза в неделю. Ко многим вообще никто не приезжает. Обитель наша – за городом, практически в лесу, при нынешних ценах на билеты шибко не наездишься… Ты сам-то как на работу добираешься?
– На спортивном мотоцикле.
– А я – на `лектричке. Права на льготный проезд пока не заработала. Официального стажа у меня – только тридцать лет, а надо тридцать пять.
– И что же вас держит на работе при таких условиях и запахе? – удивился я.
– Да, Андрюха, запах невыносимый. После каждой смены приходится стирать всю одежду по два раза. Поначалу и меня выворачивало, а потом как-то внюхалась. Что держит? Стабильность и сменный график… Но, по правде говоря, нищета, сынок, – вздохнула санитарка. – Пенсия у меня – десять с половиной тысяч, а только на ЖКУ нужно отдать семь с половиной. Андрюшке ежедневно на еду надо дать двести да на проезд сто. А еще – взносы за дачный кооператив да электричество с водой на даче. Вот и приходится в семьдесят лет дерьмо за сумасшедшими убирать. А куда деваться? Эти пятнадцать тысяч, что я здесь получаю, для меня не лишние. Впрочем, даже не пятнадцать, если учесть, что за собственные деньги я должна купить несколько комплектов больничной униформы по тысяче рублей за комплект да за медицинскую книжку три тысячи отдать. Так что, сынок, нет средств у меня даже зубы себе поставить. Видишь, нет двух сверху и двух снизу, – и баба Паша открыла рот, продемонстрировав мне печальную картину своей финансовой несостоятельности. – Приходится теперь только жиденькое кушать.
От жалости к этой женщине у меня сжалось сердце. Ей бы в ее семьдесят не миазмы эти вдыхать да дежурить по ночам, а полететь в Турцию, витаминов поесть, отоспаться, покиснуть в еще теплом море, но, видно, не судьба.
– А почему Андрею вашему не помогают его родители?
– Да не нужен он никому, кроме меня, – развела она сухонькими ручками. – Когда дочка с зятем развелись, его временно ко мне определили, пока они не устроят свою личную жизнь. А, как устроили, то поняли, что он в их планы не вписывается. Новый зять об Андрюхе даже слышать не захотел – у них с дочкой уже близнецы родились. Старый же спился и пропал куда-то. Так что… не отдавать же его в детдом.
– А почему он сам не работает? Мог бы и заочно учиться…
В глазах Прасковьи Егоровны заблестели слезы.
– Да он не очень здоров… Устает быстро… Видит не очень хорошо… Не хочу я об этом. Андрюха – мой крест. Расскажи мне лучше, каким ветром тебя занесло к нам, в бабское-то отделение.
– Я, баб Паш, диссертацию пишу на тему… В общем, очень кудрявую тему о депрессиях и неврозах молодых женщин. Сюда попросился, чтобы иметь возможность наблюдать за теми, о ком пишу.
– Стало быть, тебя интересуют только ссыкушки лет до двадцати пяти, – задумалась женщина.
– До тридцати.
– Ну, тогда обрати внимание на анорексичку Женьку Красильникову, дохудевшуюся до полного скелетизма… Олигофреничку Ленку Киселеву… Слетевшую с катушек наркоманку Ларку Пушкову. Есть еще в третьей палате Машка Цуканова, орущая, что у нее в теле ползают какие-то гады. Ее Левинсон называет сенестопаткой. Ну, и, конечно, на горе-поэтессу Соньку Гордееву, авторессу стихоплетного сборника «Обожженный нерв». У этой – тяжелейшая депрессия на почве любовной драмы и, как водится, попытка самоубийства.
– Вот-вот, – оживился я. – Чувствую, это – мой случай.
– Ну что… – задумалась женщина, – задвиги эти у Соньки – еще со школы. У психиатра она наблюдается уже много лет. Какой-то период у девки все было в порядке, пока она безответно не влюбилась в одного козла и стала его преследовать: звонить по ночам, писать письма во все его социальные сеточки, посвящать ему свои стихи. Козел испугался Сонькиного напора и нажаловался своей матушке. Та накатала письмо в деканат ее вуза и жалобу в полицию. Соньку стали травить в институте и дома. Родители порвали все ее тетради с любовными стихами, и у Гордеевой с кипящего чайника соскочила крышечка. Она объявила отца с матерью врагами, стала кричать, что они поломали ее «поэтические крылья» и называть себя «упавшей с Луны». Дальше – больше: у Соньки пропали сон и аппетит, появились страхи и перепады настроения. С кровати она уже не вставала, ничем не интересовалась. Потом начались приступы – девка стала задыхаться, как астматичка. Увенчалась вся эта история попыткой самоубийства – нажралась таблеток, едва откачали.
– Как она себя ведет здесь?
– Тихо и замкнуто. Ни с кем не общается. Пишет стихи в принесенную матерью электронную книжку или плетет из медицинских капельниц рыбок, чертиков и скелетиков. Получается очень неплохо.
– А где она трубочки эти берет от капельницы?
– Сестра процедурная дает, Валя Решетова.
– Ну, вот, – обрадовался я. – Если все-таки есть люди, с которыми Соня общается, стало быть, ее случай не безнадежен.
Я стал пить сок, и баба Паша пододвинула ко мне целлофановый мешочек с печеньем, который достала из кармана халата.
– Угощайся, Андрюха, не наелся, поди. Внучок мой этот «хворост» страсть, как любит.
Я попробовал печенье. Действительно – объедение: ароматное, тонкое, хрустящее, со вкусом моего детства, когда я на лето ездил к бабушке. Мама никогда не пекла ничего похожего, считала, что я и так толстый.
И тут я увидел рядом с нашим столом подстриженную под мальчика девушку в больничном халате. Она стояла за спиной бабы Паши и не сводила с меня своих круглых глаз-угольков. Санитарка оглянулась.
– Ты что здесь делаешь, Цуканова? – нахмурилась она.
– Водички пришла попить, – кивнула девушка на кулер.
– Ну, так пей и иди спать, а то развесила тут уши, как спаниель.
Девушка набрала в стакан воды и стала пить, продолжая сверлить меня взглядом.
– Не удивляйся, сынок, – развела руками старушка. – Это по первости так. Для них новые люди – всегда стресс. Потом они к тебе привыкнут, перестанут таращиться, начнут реагировать на твой голос…
– Это был завтрак или ужин? – поинтересовалась Цуканова, глядя на пустую посуду на нашем столе.
– Ты, Даш, уже совсем во времени потерялась, – покачала головой санитарка. – Иди спать.
– А угости меня коржиком! – обратилась девушка ко мне.
Я уже было дернулся рукой к печенью, но баба Паша меня остановила.
– Ни в коем случае! Один раз это сделаешь и потом уже от нее не отделаешься, будет постоянно за тобой ходить и канючить.
И уже, обращаясь к Цукановой, грозно прошипела:
– А ну, брысь отседова, пока я Веру Глебовну не позвала!
Услышав имя Саниной, девушка тут же исчезла в недрах коридора.
– Видел, как больные на ее имя реагируют? – с завистью отметила женщина. – Боятся Верку до уссыкачки. Даже больше, чем Левинзона. Она – как бультерьер: если вцепится своими зубищами, уже не оттащишь. У нее дома и муж, и сыновья, и сенбернар размером с теленка, – все по одной половице ходят и в одну ноздрю дышат. Ни слова поперек! Веркин приказ непререкаем, как божья воля. Тут, в отделении, оно и правильно. С нашими пациентками нельзя сюсюкать. Особенно сейчас, во время осеннего обострения. Девки излишне возбуждены: дерутся, матерятся, выбрасывают на пол еду. Приходится их привязывать, заливать силой лекарства и все время быть начеку.
– Неужели нападают на персонал?
– Еще как! За последние два года мне трижды прокусили палец, выбили коленный сустав, едва не воткнули в печень заточку, сделанную из зубной щетки. Медсестричку Галочку одна идиотка чуть не убила палкой с торчащим из нее гвоздем. Медсестре Райке Криворучко, Ларка Пушкова недавно вцепилась в волосы. Хорошо, что мы вовремя подоспели. А твоя предшественница от Машки Стахневич получила ногой в живот. Той самой Машки, которую мы сегодня утром спеленали. Представляешь, разогналась и ни с того ни с сего заехала Маргоше в пузо. Хорошая терапевтица была, добрая, спокойная, неконфликтная… Теперь вот уволилась, она ж еще детей иметь хочет. А два дня назад в отделение заходила докторша по лечебной физкультуре. Так наша Малашко пыталась задушить ее полотенцем. Не понравилась девке просьба сделать легкую зарядку.
Я моментально представил себя на их месте, и от ужаса меня прошиб пот. Стать инвалидом из-за придури какой-то разбушевавшейся пациентки – так себе перспективочка.
И тут рядом с нашим столиком снова появилась Цуканова в распахнутом халате и носках, без тапочек.
– А ну слейся отседова! – распсиховалась баба Паша. – Бродишь тут, как привидение.
– Ирка Довжик опять обосралась, – заговорщическим тоном сообщила Даша санитарке.
– В первый раз, что ли? – недобро покосилась на нее женщина. – В помещении холодно, пусть пока полежит в теплом.
И уже, повернувшись ко мне, пожаловалась:
– Стучат друг на дружку, как взбесившиеся дятлы. Достали уже до самых печенок.
Но девушка уходить не торопилась.
– А Ирка своим дерьмом стены обмазала, – как ни в чем ни бывало, продолжила она свой донос. —Солнышко пальцем нарисовала… дельфина и пальмочку…
– Твою ж дивизию! Я ей сейчас нарисую… – вскочила на ноги Прасковья Егоровна, но, охнув, тут же осела обратно на стул.
– Что с вами, баб Паш? – испугался я.
– В моем возрасте, Андрюшик, наркотики совсем не нужны, – невесело улыбнулась женщина. – Чтобы поймать приход, достаточно резко вскочить на ноги. У меня, сынок – острый хандроз, острый пароз, острый атроз4 и еще куча всякого острого и хронического…
Когда мы пришли в палату, то застали следующую картину: обкакавшаяся эпилептичка Ира Довжик на фоне своего настенного «курортного пейзажа» кормила дерьмом спеленанную по рукам и ногам наркоманку Лару Пушкову. Та извивалась, как пойманный черт, но Довжик таки умудрилась засунуть ей в рот несколько порций фекалий, зачерпнутых зубной щеткой из «благоухающей» кучи. Все лицо Пушковой было измазано дерьмом, ее рвало, но Ирка продолжала «кормежку».
– А потому что нельзя материться, – приговаривала она. – Боженька велел мне наказать тебя за сквернословие… Ешь какашки, Пушкова, ешь…
От увиденной картины и от ужасающего запаха к моему горлу подступили рвотные спазмы, и я выскочил сначала в коридор, а затем – вообще из стационара. Ураганом ворвавшись в кабинет Левинзона, я долго стоял у открытого окна, вдыхая ртом свежий осенний воздух. «А ведь родители говорили мне: „Учись на хирурга, сынок, – стучало у меня в висках. – Мозгоправы, они со временем сами начинают нуждаться в психологической помощи“, а я не поверил».
Немного успокоившись, я расположился на диване психиатра вместе с его выписками. Бумаг было слишком много, и сегодня я решил ограничиться изучением статусов лишь тех пациенток, с которыми лично столкнулся и которых запомнил. Это – Киса, Юля Малашко, Даша Цуканова, Ирка Довжик и наркоманка Лариса Пушкова.
«Дарья Цуканова, 2003 г.р., сенестопатия, – прочел я первые строки статуса пациентки. – Страдает обонятельными и осязательными галлюцинациями – чувствует запах гниения собственного тела, раздирает кожу на руках, утверждая, что в мышцах у нее ползают черви. Отказывается спать и лечиться, мотивируя это тем, что черви уже пробрались в ее мозг и сердце, а, значит, жить ей все равно осталось недолго. Девушка болезненно худа, все время хочет есть. Родственники ее не посещают…».
«Лариса Пушкова, 1995 г.р., шизофреническое расстройство личности на фоне приема амфетамина. В семнадцатилетнем возрасте была впервые направлена в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения. Последующие десять лет жизни пациентки – череда добровольных и принудительных госпитализаций. У Пушковой быстро развиваются тяжелые психозы, приводящие к слабоумию. Девушка крайне неуживчива, злопамятна, агрессивна. У нее – постоянные перепады настроения. Вспышки гнева, во время которых она бьет посуду, ломает вещи, дерется и плюется, сменяются периодами вялости и пассивности…».
«Ирина Довжик, 1992 г.р., эпилепсия, возникшая в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, произошедшей в 2015 году. Приступы сопровождаются утратой контроля над функциями кишечника и мочевого пузыря. Припадки имеют форму незначительных провалов в памяти и мышечных спазмов. У пациентки часто бывают панические атаки, страх выходить на улицу…».
За окном стало потихоньку темнеть. Ни Заславская, ни Левинзон со своих заседаний в отделение не вернулись. Стало быть, общественные нагрузки для них куда важнее, чем пациентки с их хворями. Пора было и мне закругляться. Я закрыл кабинет психиатра и все имеющиеся у меня ключи понес в стационар. Не успел протиснуться за решетку, как в нескольких метрах от меня материализовалась низкорослая толстушка дет двадцати-двадцати пяти, в очках с толстыми стеклами, детскими хвостиками на голове и плюшевым медвежонком в руках. Она скакала вокруг меня, как мячик, картаво приговаривая: