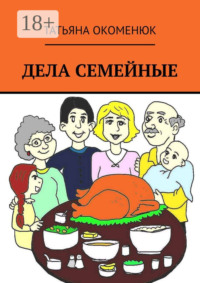Полная версия
Психуля

Психуля
Татьяна Окоменюк
Литературный редактор Влада Танич
Технический редактор Александр Солощев
© Татьяна Окоменюк, 2025
ISBN 978-5-0068-5898-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Психуля
Меня зовут Андрей Владимирович Чаусов. Прозвище – Психуля. Нет, с психикой моей все в порядке, тут дело – в профессии. Я – молодой врач-психотерапевт. Работаю в Междуреченской городской психиатрической больнице. На этом основании ко мне и приклеилось сие прозвище. Даже родители иногда меня называют Психулей. Мама – когда на меня сердита. Отец – наоборот, – в моменты особого эмоционального подъема, когда сильно по мне соскучился. «Сынуля, психуля моя, мог бы почаще навещать своих старых больных родителей», – с этими словами он обычно встречает меня на пороге своего шикарного двухэтажного дома на Междуреченской Рублевке – месте, где обитают «все приличные люди нашего города».
Насчет «старых» это он кокетничает. Родители мои еще сравнительно молоды – обоим по сорок шесть. Когда я родился, им едва исполнилось по двадцатнику. И здоровьем их бог не обидел. Мама занимается скандинавской ходьбой и ведет секцию йоги в городской «Школе Аштанга Йога», а папа много лет моржует, и часами может подтягиваться на турнике. Их увлечений ЗОЖ1 и спортом я никогда не разделял, искренне считая, что здоровому человеку спорт не нужен, а больному – попросту вреден. Мама неоднократно пыталась меня затащить в свою секцию, но со временем таки поняла, что докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. А папа до сих пор не смирился с тем, что его сын ни разу не может подтянуться на турнике. Как он ни старался, но развить у меня комплекс неполноценности по этому поводу ему не удалось. Я точно знаю: если бы спорт был, действительно, полезен, то на каждом турнике висело бы по три еврея, однако… не висят.
На самом деле, родителей своих я очень люблю, но жить предпочитаю отдельно. В этом вопросе мне повезло – в наследство от двоюродной бабки, у которой родных внуков не было, я получил квартиру практически в центре города. Не хоромы барские – двушка на пятьдесят четыре квадрата в типовой пятиэтажной панельке: потолки низкие, кухня крохотная, санузел совмещенный…
Нет, я не жалуюсь: для одного меня места вполне хватает, а я пока один – не до семейного строительства, когда пишешь диссертацию с пугающим слабый пол названием «Клинико-типологические и психосоматические аспекты депрессивных состояний невротического уровня у молодых женщин».
И дело тут не только в постоянной занятости, но еще и в том, что у каждой встреченной мной барышни я нахожу целый ряд психических расстройств. Такая, знаете ли, профессиональная деформация мозгоправов – определять потенциальных пациентов по их речи, движениям, взглядам.
В итоге, вместо того чтобы морочить голову неискренними комплиментами, я честно информирую девушку о наличии проблемы, которую нужно срочно решать, иначе в обозримом будущем ее упакуют в смирительную рубашку и отправят с сиренами в учреждение с крепкими санитарами и бесперебойной подачей холодной воды. Как вы думаете, многие ли из них после этого продолжают со мной общаться? Угадали! Вот поэтому я пока один.
Ну, если честно, то не только поэтому. Мама считает, что я циничен, категоричен, эгоистичен и черств. Факторы дурной наследственности и скверного воспитания она, как ни странно, отметает. Считает, что во всем виноват мой знак зодиака – Овен. С этим я категорически не согласен. Во-первых, не я виноват в том, что у меня нет братьев и сестер, и мне ни с кем не приходилось делить жизненные блага. А, во-вторых, я в этот «дивный новый» мир не рвался – родители поторопились. Подожди они хоть чуть-чуть, и имели бы Тельца, не столь токсичного, как Овен, но тоже весьма далекого от совершенства: жадного, ленивого, тормозного, сдвинутого на материальных благах. А прояви они немного больше терпения, получили бы Близнеца, дерганого, болтливого, капризного и «слабого на передок». Кто знает, что лучше…
Отправляя меня на учебу в Медицинскую Академию, родители видели меня хирургом. Пластическим. Для них, разделяющих мнение американцев: «Успех, не подтвержденный долларом, есть клоунада», мой поход в психиатрию был откровенной фрондой. Чем-то вроде забивания гвоздей дорогостоящим микроскопом. Когда мою первую научную статью «Современный подход к лечению тревоги и депрессии» напечатали в журнале «Научное обозрение», отец процитировал Доктора из нашей любимой семейной комедии «Формула любви»: «Голова – предмет темный и исследованию не подлежит». А потом, немного подумав, добавил с откровенным сожалением: «Это значит, сынок, что всю свою жизнь ты будешь ходить с финансово озабоченным лицом и к старости сможешь отложить только соли».
В этом вопросе, с ним, успешным предпринимателем, мне, человеку, получающему менее сорока тысяч рублей в месяц, спорить не приходится, но я отношусь к тому небольшому проценту людей, которые даже бесплатно будут заниматься делом, к которому лежит их душа. Вопреки мнению вышеупомянутого киношного Доктора, я таки не теряю надежды исследовать этот «темный предмет» – человеческий мозг.
Именно поэтому, получив красный диплом, я не остался преподавать на кафедре психотерапии, а после аспирантуры отправился в «самое пекло», чтобы на практике разобраться с волнующими меня вопросами.
1
«Пекло» встретило меня весьма своеобразно. Больницу, обнесенную по периметру трехметровым забором, охраняли похлеще, чем Форт-Нокс2. Вход – строго по пропускам. Ко всем новеньким – сплошное недоверие. Не похож я, видите ли, на доктора, а смахиваю на «наркоманского кореша, припершего „дурь“ в приличное лечебное учреждение». Пока я собачился с охранником, не нашедшим моего имени в подписанных главврачом пропускных списках, а тот созванивался с отделом кадров, я уже мысленно стал соглашаться с родителями, что профессия пластического хирурга таки более уважаема социумом.
Наконец, электронный замок щелкнул, и я попал внутрь маленького государства, именуемого в народе желтым домом. Территория больницы была очень мрачной. Нигде не было ни лужаек, ни клумб с цветочками, ни щитов с добрыми мотивирующими плакатами, какие я видел в частной психиатрической клинике, где проходил ординатуру. Здесь даже парк, отдельные сектора которого были перегорожены металлическими сетками, был похож на гигантский вольер.
Сразу за парком, буквой «П» выстроились серые пятиэтажные корпуса советской эпохи с решетками на окнах. Ни дать ни взять – тюряга. Особой жути этому месту придавало огромное количество ворон, чувствующих себя здесь полными хозяевами. Почему-то не воробьев, не голубей, не прочих птичек, водящихся в обычных городских парках, а именно ворон – вестников загробного мира, посредников между жизнью и смертью. Сопровождаемый зловещим карканьем, напоминающим жуткий человеческий хохот, я вышел к административному зданию.
Ну, здравствуй, мое место работы, мой профессиональный клуб, моя исследовательская лаборатория… Я пришел к тебе с приветом, в прямом и переносном смысле этого слова.
В отделе кадров я ознакомился с условиями своей трудовой деятельности. «Да-да, вот – все необходимые документы». «Да-да, зарплата не ахти, но зато продолжительность отпуска шестьдесят три календарных дня – по полноценному месячному отпуску раз в полгода, плюс доплата за вредность, плюс льготный стаж и более ранний выход на пенсию – в пятьдесят пять лет». «Инструктаж о поведении с больными? Серьезно? Все понял: не поворачиваться к пациентам спиной, не заходить в палату без сопровождения санитаров, не разговаривать с больными ни в панибратском, ни в агрессивном тоне; в случае опасности, запираться в любом помещении на специальный трехгранный ключ…».
– Дур-дом, – едва слышно ворчу я себе под нос.
– Он самый! – совершенно серьезно подтверждает кадровичка.
Наконец, я подписываю трудовой договор и мчусь в свое, женское, отделение.
Кабинет заведующей, Евы Витольдовны Заславской, оказался барскими хоромами, нафаршированными дорогой мебелью и суперсовременной техникой, а сама шефиня – Василисой Прекрасной. Высокая, статная, вытянутая, как струна, с точеными ножками и фигурой «песочные часы», она будто бы сошла с обложки журнала «Женщина успеха». У нее – огромные зеленые глаза, густые ресницы, изогнутые брови, изящный носик, ровные, в ниточку, белые зубы. Стильная стрижка «каре» сделана явно у хорошего мастера. На лице – ни единой морщинки, хотя ей уже, определенно за сорок. И одета Заславская далеко не в «бюджетный шмот»: серое приталенное платье из мягкой шерсти с воротником-стоечкой, матовые колготы цвета «мокрый асфальт», изящные туфельки из крокодильей кожи на высоком каблучке. Поверх платья – необычный медицинский халат, больше похожий на вечернее платье-запашку. Не удивлюсь, если он пошит у хорошего портного по ее собственным лекалам. А запах! Тонкий аромат изысканных духов, флакон которых стоит столько, сколько половина моей квартиры. Одним словом, Королева, а не психиатр из «желтого дома». Чтобы так выглядеть, нужно иметь личного парикмахера, маникюршу, массажиста, фитнес-тренера, стилиста и косметолога. Ну, и, конечно, состоятельного мужчину, которому было бы в радость все это оплачивать. Хотелось бы взглянуть на него хоть одним глазком.
– Рада приветствовать вас, Андрей Владимирович, в нашем женском коллективе, – улыбнулась заведующая, закуривая у приоткрытого окна длинную тонкую сигарету. – Из мужеского полу у нас в наличии только мой заместитель – психиатр Михаил Борисович Левинзон. Наш средний и младший медицинский персонал чуть ли не молится, чтобы в отделение направили еще одного мужчину, хотя бы для запаха. Сегодня их мечта сбылась.
– А куда подевался мой предшественник? – поинтересовался я.
– Маргарита Петровна уволилась по собственному желанию – нервишки пошаливали, – стряхнула Заславская пепел в причудливую вазочку в виде длинной зеленой ящерицы. – У работающих с нашим контингентом нервы должны быть крепче, чем титановая проволока. Надеюсь, у вас с этим все в порядке.
– Справку из нарко- и психдиспансера я в отдел кадров сдал, а там… как говорится, вскрытие покажет.
– Я рада, что у вас есть чувство юмора. Без него на нашей работе сам с ума сойдешь.
Я неопределенно сдвинул плечами. Уже второй человек за сегодняшний день, хоть и косвенно, но пугал меня моими будущими пациентками. Трусливые бабы, что с них взять?
– У нас в отделении – четыре палаты по десять человек. Все двери на этаже открываются специальным ключом, который есть только у персонала. Будет он и у вас. Ежедневные планерки начинаются в восемь утра. На них дежурная медсестра докладывает врачебному составу об изменении самочувствия всех наших больных: психическое и физическое состояние, уровень настроения, поведение, аппетит, количество дневного и ночного сна и т. д. Обход, во время которого мы беседуем с каждой пациенткой, проводится по понедельникам с десяти утра.
Контингент у нас практически постоянный, каждую весну и осень – одни и те же лица. Как говорит мой зам Левинзон, «все те же – на манеже». Лежат они долго, по несколько месяцев. Потом недельки четыре проводят дома и снова – к нам. Родственники от них быстро устают, а потому за приемом лекарств намеренно не следят. Только ребята начинают чудить, они вызывают скорую и везут их сюда.
Речь заведующей прервал телефонный звонок.
– Еду-еду, я помню! – затушила она сигарету, оставив в пепельнице окрашенный губной помадой окурок. – Уже выезжаю.
Нажав на отбой, шефиня набрала чей-то номер.
– Миш, зайди ко мне! Да, прямо сейчас! Я отправляюсь на очередное заседание… Введи в курс дела нашего нового психотерапевта.
И уже, обращаясь ко мне:
– К сожалению, Андрей Владимирович, я должна откланяться. Кроме всего прочего, я еще и депутат законодательного собрания. Вынуждена периодически бросать хозяйство на Михаила Борисовича. Зато, благодаря своим общественным нагрузкам, мне удалось пробить капитальный ремонт отделения. Все палаты и туалетные комнаты мы недавно оборудовали настенными кварцевыми лампами. Закупили двухсторонние тумбочки на колесиках и новые функциональные кровати, сменившие спецкойки с дырами, через которые больные просто проваливались на пол. Настелили в коридоре долговечный линолеум Tarkett с дополнительным звукоизолирующим слоем и противоскользящим покрытием. Отремонтировали пищеблок. Теперь там – новые трубы, современное оборудование, белый кафель и нержавейка. А вот с окнами у нас – просто беда: ветхие, с решетками, как в тюрьме, а в смету их не включили. И это притом, что существует приказ Минздрава, предписывающий оборудовать психиатрические больницы окнами из небьющегося стекла…
– День добрый! – появился в кабинете мелкий невзрачный мужчинка в мятом халате и белых резиновых шлепанцах. На вид ему было лет пятьдесят пять, не меньше. Назвать его приятным трудно было даже с натяжкой. Излишне крупный нос, неулыбчивые серые глаза, тонкие поджатые губы, глубокие залысины на непропорционально крупной голове, тонкая шейка с огромным кадыком. Но самое главное – пронизывающий насквозь колючий змеиный взгляд, не обещающий ничего хорошего.
Он подошел к стоящей у окна заведующей и скривился, демонстрируя ей свое отношение к сигаретному дыму. Ростом он едва доставал шефине до уха и смотрелся на ее фоне, как булгаковский Шариков на фоне доктора Борменталя.
– Доцент Левинзон Михаил Борисович, – протянул он мне руку. – Как поживаете, коллега?
– Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты, – с совершенно серьезной миной пожал я его маленькую, почти женскую, ручку. – Андрей Владимирович Чаусов.
– Наш человек! – рассмеялась шефиня, бросив на меня одобрительный взгляд сквозь стекла своих стильных очков в золотой оправе.
Левинзон фыркнул, как обиженный бык. Ее реакция на мою остроту ему явно не понравилась. Понятное дело: малый рост дурно влияет на характер и развивает честолюбие.
– Ваш кабинет, Андрей Владимирович, пока не готов. Сегодня вы погостите у Михаила Борисовича. Он, собственно, вам все расскажет и покажет.
– Ева… Витольдовна! Я не Фигаро… У меня через сорок минут – экспертная комиссия…
– Вот и славно, доцент, – мягко перебила она заместителя. – Значит, кабинет твой будет свободен. А за это время ознакомь коллегу с описанием статуса каждой пациентки, представь его нашему персоналу, проведи экскурсию по отделению. И пусть девчонки к завтрашнему утру закончат приводить в порядок его кабинет.
Заславская подошла к шкафу, сняла шикарный халат с бейджиком на левом кармашке, аккуратно повесила его на плечики. Затем протянула руки к своему ультрамодному плащу цвета «баклажан». Я вскочил на ноги и помог даме одеться. Ева Витольдовна бросила на Левинзона многозначительный взгляд. Тот сразу же отвернулся к окну.
– Спасибо, Андрей, вы – настоящий джентльмен, – отметила Заславская. – Не зря сестрички и нянечки с таким нетерпением ждали вашего появления.
Из начальственного кабинета мы вышли все вместе. Заведующая поцокала каблучками к лестнице, а мы с Левинзоном направились в его кабинет.
– Рабочий день у нас не нормирован, а распорядок зависит от количества новых пациентов, – приступил психиатр к «ускоренным курсам молодого бойца». – Как правило, их привозят родственники или скорая, но иногда они приходят сами и просят о госпитализации. Сначала поступивших осматривают в приемном покое, затем передают нам. Мы помещаем новеньких в «надзорную» палату и дней семь-десять за ними наблюдаем. В «надзорке», кроме новеньких, находятся больные в остром психотическом состоянии. Заходить туда одному строго запрещается. Если состояние пациентки стабилизировалось и психоз снят – спасибо вечной троице: феназепам-аминазин-галоперидол, мы ее переводим в одну из трех палат, для больных, способных к самообслуживанию.
– А разве, по-прежнему, в ходу пресловутые аминазин с галоперидолом? Я думал, из-за побочек излишне тяжелые препараты уже вывели из обращения. От них ведь начинаются невыносимые судороги. Попытка надеть носки или дойти до туалета после их приема вызывает страшные физические мучения.
– Вот что я вам скажу, коллега: с психофармакологическими и противосудорожными средствами нового поколения у нас, по-прежнему, хуже, чем «не очень». Из таблеток в больнице – только галоперидол, сероквель, аминазин, феназепам, бондормин, вабен, азалептин, зипрекса и еще кое-что. Вот ими мы и обходимся. Что же касается побочек, то пациентки во время обхода сигнализируют о них, и я корректирую курс лечения. А вообще, я ежедневно работаю с листами назначения медикаментов: анализирую дозировку и подправляю ее, в зависимости от состояния больных.
А вот и мой кабинет, – махнул он рукой на дверь с табличкой, на которой красовалась его фамилия. Ваш – через один от моего.
Кабинет Левинзона состоял из двух зон: рабочей и зоны отдыха. Последняя представляла собой оазис уюта в суровой производственной пустыне: мягкий уголок, состоящий из дивана и кресла, низкий журнальный столик с причудливой икебаной, в углу – включающийся пультом торшер, на стенах – репродукции картин, написанных в японском стиле. На высоком декоративном столике – музыкальный комбайн с двумя колонками – не иначе как для прослушивания расслабляющей музыки и звуков природы.
Рабочая же зона была довольно скромной, чтобы не сказать аскетичной. Стеллажи с папками и книгами, стол, компьютер, телефон – ни одного лишнего предмета, отвлекающего на себя внимание хозяина. Разве что, постер на стене с высказыванием создателя психиатрической школы П. Б. Ганнушкина: «Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами. Самое интересное – шизоидами. Самое доброе – депрессивными. Невозможное – психопатами. Здоровые почти не вносят вклад в историю».
– Прикольно! – кивнул я на постер.
– Не расстраивайтесь, коллега, – успокоил меня Михаил Борисович, доставая из ящика какие-то бумаги. – Здоровых людей нет вообще. Есть необследованные. Вспомните известное высказывание Франквуда Уильямса: «Так называемая нормальность есть легкая форма слабоумия. Считать себя нормой – уже патология».
«А этот психиатр, годящийся мне в отцы, – еще больший циник, чем я сам, бывает же», – пронеслась в моем мозгу шальная мысль.
– Не верится? – ухмыльнулся Левинзон. – Разного рода психиатрические расстройства наблюдаются сегодня у каждого четвертого россиянина. Если учесть, что статистические исследования проводились еще до начала пандемии и то, что в статистику вошли только те, кто обратился за помощью, можете представить себе реальную цифру персонажей со съехавшей набок кукушкой.
Вот вам, Андрей Владимирович, – описание статуса каждой пациентки. Самым популярным диагнозом у нас является шизофрения. Изучайте. Выписки у меня длинные, развернутые – практически биографические эссе. В них есть все, начиная с рождения, включая подробное описание пубертатного периода, поскольку первые симптомы психических нарушений проявляются уже в двенадцать-четырнадцать лет…
– Я могу с этим поработать в зоне отдыха? – кивнул я подбородком на мягкий уголок.
– Можете, мой друг, – криво ухмыльнулся психиатр. – Только зона эта – самая что ни на есть рабочая – там я провожу сеансы гипноза. Вот – ключ от кабинета. Когда закончите, передадите его нашей старшей медицинской сестре Вере Глебовне Саниной или дежурной сестричке. Пойдемте я вас с ними познакомлю. Кстати, санитарная книжка у вас с собой?
– Да, – похлопал я себя по карману. – Меня в отделе кадров предупредили, что храниться она будет у Саниной.
– Тогда – на передовую!
2
До сих пор я чувствовал себя абсолютно спокойно, но чем ближе мы подходили к металлической решетке, разделяющей длиннющий коридор на две зоны: стационарную с больничными палатами и «кабинетную», тем больше я ощущал легкий мандраж. Да что я вру! Не легкий и не мандраж – я дрожал всем телом, как молодой послушник перед посвящением в сан. Понимал, что второго шанса произвести благоприятное «первое впечатление» у меня уже не будет. А понравиться я очень хотел, и пациенткам, и сестричкам, которые, если верить заведующей, так долго меня ждали.
Пока Левинзон открывал «тюремную» дверь специальным ключом, я даже сквозь медицинскую маску унюхал в коридоре «что-то странное». Да что там странное! Мне в нос ударил тошнотворный коктейль из мочи, экскрементов, старческого пота, табачного дыма, хлорки и лекарств. После флера дорогих духов заведующей, тянувшегося за мной шлейфом по коридору, это амбре можно было смело приравнять к бактериологическому оружию. Я вопросительно посмотрел на психиатра.
– Да-да, мой друг, дышите глубже – проезжаем Сочи, – хохотнул тот. – Это – обычный запах любого психиатрического отделения. Привыкайте.
Пока он закрывал за собой решетку на ключ, я прошел несколько шагов по коридору. Двери в палатах отсутствовали. Койки были привинчены к полу, и на каждой из них – по три пары «ушей» для смирительных ремней. Тонкие, чуть толще одеяла, матрасы обтянуты клеенкой. На них – застиранные до асфальтовой серости простыни с обтрепанными краями. Подушки были маленькими и плоскими, как блины. «Видимо для того, – решил я, – чтобы ими нельзя было кого-нибудь задушить».
Пациентки в байковых бордовых халатах лежали на койках поверх одеял. Некоторые из них читали, некоторые были привязаны к кроватям и признаков жизни не подавали. Одна худенькая, как былиночка, девушка стояла у окна, забранного мелкой железной решеткой, и что-то рисовала пальцем по запотевшему стеклу. Я «навел резкость». Это были крылья, но какие-то странные, изломанные, что ли.
Недалеко от художницы, прямо на кафельном полу, сидели две корпулентные барышни в распахнутых халатах. Тонкими прутиками от веника они гоняли друг к дружке не то жуков, не то пауков.
Пока я, открыв варежку, наблюдал за «тараканьими бегами», в конце коридора появилась, одетая в пижаму, крупная девица ростом с омоновца. Она вынырнула из предпоследней палаты и бросилась бежать по коридору прямо на меня. Девушка была босая, в руке она держала какой-то пакет. Ее огромные арбузные груди угрожающе колыхались под тонкой тканью пижамной куртки, а маленькие поросячьи глазки метали искры.
Вспомнив сегодняшний инструктаж, я впечатался спиной в стену, окрашенную в жуткий салатовый цвет. По мере приближения барышни, вся моя жизнь успела пролететь перед моими глазами: от горшка и до сегодняшнего дня. Вжжжик – и «гренадерша» пролетела мимо. Она неслась прямо на Левинзона, спокойно стоящего посреди коридора со скрещенными на груди руками.
Я застыл от охватившего меня ужаса – сейчас эта «каменная баба с острова Пасхи» собьет с ног гномика-психиатра и, наступив на него своей ножищей сорок пятого размера, размажет его по долговечному линолеуму марки Tarkett…
Бог миловал. Встретившись взглядом с психиатром, девица стала спешно тормозить босой ногой о новое половое покрытие, но сила инерции пронесла ее еще пару метров, остановив перед самым носом Левинзона.
– Приплыли тапочки к обрыву! – с невозмутимостью рептилии произнес доктор, так и не изменив позы.
От страха барышня затряслась вдруг в своей пижаме, как желе. Да-да, она дрожала от ужаса перед человеком, дышавшим ей в пупок. Мужчиной, который был настолько худее и легче ее, что на ринг их вместе никогда бы не выставили.
В это время из предпоследней палаты выскочила какая-то Дюймовочка, маленькая, щупленькая, похожая на чахлый картофельный росток, и с нечеловеческим воплем ринулась к доктору.
– Это – мое, мое! – орала она, размазывая по щекам слезы. – Мне мама принесла, а Юлька Малек украла!
И в эту же секунду раздался еще один крик, от которого я вздрогнул всем телом:
– Вот мерзавки! На секунду отвернешься, и они уже творят очередное непотребство!
Последняя реплика принадлежала огромной женщине в белом халате и высоком белом колпаке. Ростом она была под два метра, мощная, крепкая, большегрудая и задастая – прям, парковая скульптура сталинских времен. Таких крупных дам я никогда не встречал, если, конечно, не считать выскочившую, как черт из табакерки, Юльку. Не исключено, что их обеих произвели на одном и том же «конном заводе».
– Простите, Михаил Борисович, – недосмотрели, – приложила дама руки к груди. – Бобкова опять обделалась – девки ее сейчас моют. Баба Паша делает в столовой влажную уборку, а Галка потащила белье в прачечную…
Я опасливо приблизился к группе действующих лиц, стараясь не поворачиваться к пациенткам даже в профиль.
– Вот, коллега, это – наша старшая сестра Вера Глебовна Санина, – представил он мне великаншу. – А это, Вера Глебовна, – наш новый психотерапевт Андрей Владимирович Чаусов.
– Очень приятно, – растянула та губы в подобострастной улыбке. – Вы даже не представляете, насколько мы нуждаемся в мужском персонале. У нас тут отдыхают – такие оторвы, что…