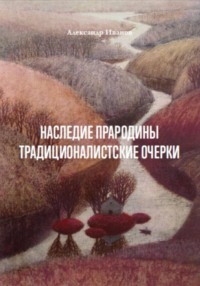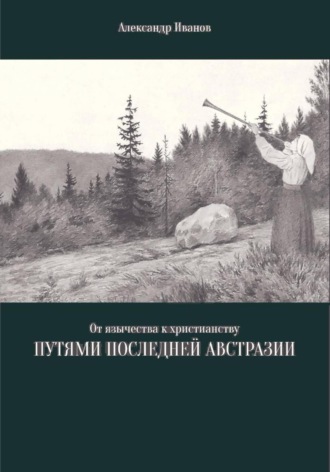
Полная версия
От язычества к христианству. Путями последней Австразии
Начало среднего плейстоцена, которое датируется примерно в 300 тыс. лет назад (при продолжительности всего периода в 100–150 тыс. лет), на Русской равнине совпало с лихвинским межледниковьем. «Это межледниковье, – как отмечает Лазуков, – продолжительнее всех последующих, и для него характерны неоднократные смены ландшафтов. Осадконакопление в это время происходило при… высоком уровне океана. Об этом свидетельствуют мощные толщи морских отложений (до 50–100 метров). …Обычно морские отложения залегают на десятки метров ниже уровня моря. В современную сушу по древним речным долинам они вдаются широкими заливами-эстуариями на многие десятки (Прибалтика) и даже сотни километров (север Русской равнины и Западной Сибири)».
Последующее за теплым периодом максимальное среднеплейстоценовое оледенение (в Альпах определяемое как рисское, в Восточной Европе – днепровское и московское, в Сибири – самаровское) также происходило в условиях высокого уровня мирового океана. Характеризуя его, Лазуков пишет: «Наибольшие размеры ледники имели на Русской равнине. В Восточной Сибири оледенение имело в основном горный и полупокровный характер. Только на западе (Путорана) был крупный ледниковый покров. Однозначной оценки мощности льдов нет. Многими признается, что в центре ледникового питания (район Ботнического залива) она достигала 5 км. В районе Ленинграда мощности оцениваются до 3 км, в Москве – 1, 5–2 км, а в краевых частях донского и днепровского языков – в 300–500 м. …На севере Евразии максимальное оледенение развивалось в условиях обширной, трансгрессии Полярного бассейна, воды которой проникали на сотни километров в пределы суши. Уровень моря был на 100–120 м выше современного. Именно благодаря синхронному развитию с трансгрессией днепровское (самаровское) оледенение было максимальным: создались особенно благоприятные соотношения между теплом (холодом) и влажностью».
Таким образом, современные палеогеографические представления исключают возможность присутствия человека в Арктике ранее начала верхнего плейстоцена и не столько потому, что этому препятствовали климатические условия Арктического региона, сколько из-за высокого уровня Северного океанического бассейна[10][1]. Следует отметить, что основоположники арктической теории (Уоррен, Вирт, Тилак) писали свои труды в конце XIX – начале XX века, т.е. в то время, когда не была определена даже приблизительно длительность Четвертичной эратемы. Для них Третичное время – это эпоха, непосредственно предшествующая ледниковому периоду (плейстоцену), то есть двум известным на тот момент оледенениям, разделенным одним межледниковьем. Поэтому ничто не препятствовало тому, чтобы связать прародину человечества с землями, освобожденными от вод в процессе эоплейстоценовой регрессии, а процесс антропогенеза приурочить к длительной Третичной эратеме. Казалось бы, доводы, приведенные основоположниками теории северного, полярного происхождения человечества в пользу самой возможности существования человека на территориях, расположенных за полярным кругом, не могут быть приняты сегодня в силу современных палеогеографических данных: ведь известная геологам еще в начале XX века регрессия мирового океана в последующем сменилась выраженным повышением его уровня, а значит предполагаемые предки человека не могли оставаться в заполярье дольше конца эоплейстоцена. Эти заключения будут на самом деле верными только в том случае, если мы будем продолжать настаивать на теории, которая относит происхождение человека современного типа к третичному периоду. Однако если мы беспристрастно рассмотрим данные современной антропологии, то мы не найдем для этого весомых оснований.
До недавнего времени в антропологии существовали две гипотезы о происхождении неоантропа. Это теории поли- и моноцентризма. Теория полицентризма была впервые сформулирована Ф. Вайденрейхом в 1938 году. Как указывает Я. Я. Рогинский: «Он утверждал, что от синантропа произошли монголоидная и американская расы, от яванского питекантропа – австралийская раса, от родезийского человека – негрская или бушменская раса, от палеоантропов Передней Азии – европеоидная раса. Важными фактами, на которые опирается Ф. Вейденрейх, можно считать специфические черты сходства между синантропом и монголоидами – лопатообразные резцы, ореховидные вздутия на язычной поверхности альвеолярного края нижней челюсти и некоторые другие особенности зубов и скелета. При сопоставлении питекантропа и австралийской расы Ф. Вейденрейх ограничился общей особенностью их – отсутствием глубокого желоба между чешуей лобной кости и ее выступающим краем над глазницами» [57]. Что касается родства родезийца с негрской расой и ближневосточных палеоантропов с европеоидной расой, то оно не было аргументировано морфологическими фактами.
Теория моноцентризма, напротив, утвердила тезис о происхождении всех рас человечества из одного центра и дальнейшее их распространение по всей земному шару. В пользу своей точки зрения моноцентристы приводят факты, свидетельствующие о сходстве всех современных рас Homo sapiens, в тех признаках, которыми они резко отличаются от других антропоидов: у всех рас есть подбородочный выступ, обеспечивающий возможность членораздельной речи, у всех отсутствует надглазничный валик, у всех рас самый крупный коренной зуб первый, а не второй, как у палеоантропов и, наконец, соотношение ширины затылка с высотой черепа, а также длины основания черепа с его высотой сходны у всех рас и резко отличны от палеоантропа. Но наиболее веский аргумент моноцентристов заключается в данных, полученных палеогенетиками.
Впервые сравнительное исследование ДНК было предпринято профессором Калифорнийского университета в Беркли Алланом К. Уилсоном, который получил в 1987 году ДНК 147 людей разных рас. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science» в 1992 году. Для исследования была выбрана ДНК митохондрий – клеточных органелл, находящихся в цитоплазме, а потому наследующаяся только по материнской линии, поскольку зародыш получает цитоплазму только от яйцеклетки. По этой же причине митохондриальная ДНК не вступает в процессы скрещивания с ДНК отца, и все изменения в ее составе можно приписать нейтральным, не жизненно важным мутациям, которые, как предполагается, протекают с постоянной скоростью. Кроме того, митохондриальная ДНК обладает большей вариабельностью, что является следствием ее более высокой мутагенной активности. Было выяснено, что расхождение в нуклеотидном составе участка ДНК (названного «гипервариабельным сегментом 1») между людьми разных рас и континентов, с одной стороны, и наиболее близкими в морфологическом отношении к человеку шимпанзе – с другой, составляют около 42%. Зная, что эволюционные линии этих высших приматов и человека разошлись около 5 млн. лет назад, не составило труда определить темп мутации и вычислить время дивергенции наиболее вариабельных образцов ДНК человека и таким образом определить время жизни «праматери человечества», которое составило 200–100 тысяч лет назад, или по уточненным оценкам японского ученого Сатоси Хораи 143 тысяч лет.
В целом в генотипе шимпанзе и человека в среднем отличается каждый сотый нуклеотид, в то время как ДНК людей разных рас имеет различие только в каждом тысячном. Наибольшие различия в гипервариабельном сегменте 1 митохондриальной ДНК, достигающие внутри современного человечества 2%, наблюдаются между африканцами, живущими к югу от Сахары и представителями всех других рас. Эта бушменская раса, которая согласно археологическим данным заселяла некогда весь Африканский континент, характеризуется очень низким ростом, узким носом, более светлой кожей по сравнению с другими африканцами, наличием складки верхнего века у внутреннего угла глаза (эпикантус), характерной для монголоидной расы и довольно плоским лицом. Само ее существование, казалось бы, должно говорить в пользу полицентризма. В генотипе передающейся только по линии отца Y-хромосомы у некоторых представителей бушменской расы была найдена мутация, не обнаруженная у представителей других рас; в чем можно видеть следы генетических контактов данной расы с древними автохтонными популяциями палеоантропов.
Эти данные с позиций миграционной теории, которая одна может примирить аргументацию как моно-, так и полицентризма, указывают на большее присутствие в южно-африканской подрасе генов автохтомного населения Африки, происходившего непосредственно от палеоантропов, поскольку Центральная Африка, явилась естественным географическим тупиком, где теснимые человеком современного типа палеоантропы сохранялись в чистом виде наиболее длительное время. Факты метисации палеоантропов и людей современного типа известны, к примеру, из находок на горе Кармел в Палестине, а также из материалов более поздней Суньгирьской стоянки во Владимирской области. Таким образом, в настоящее время синтетическая миграционная теория, позволяющая связать воедино сильные стороны моноцентризма и полицентризма представляется наиболее обоснованной.
Сравнительно недавно в европейских палеоантропах видели эволюционную стадию развития человека. Несмотря на их архаические черты (малая высота свода черепа, выступающий сплошной надглазничный край лобной доли, покатый лоб, скошенные щечные поверхности скуловых костей, отсутствие подбородочного выступа, и особое строение гортани, не допускающее наличия членораздельной речи), указывалось на то, что поздние палеоантропы – неардентальцы имели довольно развитую мустьерскую культуру. Она была названа так по наименованию пещеры Ле-Мустье во Франции и характеризовалась значительно усовершенствованной техникой обработки каменных орудий (различные рубила). Также в качестве аргумента в пользу того, чтобы рассматривать палеоантропов как предковую стадию человека современного типа приводился довольно веский довод о том, что нигде не были найдены останки палеоантропов, перекрывающие слои с останками людей современного типа. Однако сейчас доказано, что неардентальцы не только сосуществовали с людьми современного типа, но и могли смешиваться с ними.
Факты одновременного сосуществования и метисации неардентальцев и людей современного типа были получены в 80-е гг. при исследовании находок из пещер Схул, Табун и Кебара на горе Кармель в Палестине, где еще в 30-е гг. XX века, были обнаружены остатки палеоантропов, обладавших многими чертами сходства с современным человеком (Схул) и собственно неардентальцев (Табун, Кебара). Первоначально, сразу после обнаружения они были отнесены ко времени 40–45 тыс. лет назад. Однако позднее эти находки были датированы в 100 и 120 тыс. лет соответственно (по исследованию зубов мамонта, найденных на уровне погребений). Подобные находки «архаичных неоантропов» были сделаны в Джебел-Кафзех возле Назарета: при их исследовании методом радиоуглеродного анализа был получен возраст в 92 тыс. лет, а методом электронно-спинового резонанса – 115 тыс. лет. Наиболее древний череп, относимый к Homo sapiens, был обнаружен в пещере Омо (Эфиопия), неподалеку от северного побережья озера Туркана в 1965 году. Отложения полевого шпата, взятого из пемзы, лежащей ниже и выше места находки методом аргонового датирования дало возраст 195 и 104 тыс. лет, что в среднем дает 150 тыс. лет. Аналогичные находки костных человеческих останков, сделанные в Танзании (Летоли-18) и в Южной Африке (пещеры Бордер и Класиес), датируются возрастом 120–150 тыс. лет. Эти находки синхронны появлению классических европейских неардентальцев, которые около 130 тыс. лет назад сменили т.н. ранних палеоантропов («пренеардентальцев»), распространенных в эпоху среднего плейстоцена.
Однако находки «раннего неоантропа» никак не связаны с «ориньяком» – древнейшей из известных сегодня культур верхнего палеолита, чьим творцом, несомненно, признается человек современного физического типа. На Ближнем Востоке, т.е. там, где обнаружены находки «архаичного неоантропа» ориньякская культура по самым смелым датировкам появляется никак не ранее 36 тыс. лет назад, и имеет европейское происхождение. Это касается и собственно людей современного типа, которые в Палестине и Ливане появляются 30–40 тыс. лет назад и не имеют остаточных черт неардентальцев.
В 1997 г. профессором Сванте Паабо были проведены работы по сравнению митохондриальной ДНК, выделенной из фрагмента позвонка неандертальца, найденного в 1856 г. в Фельдгоферовской пещере близ Дюссельдорфа в Германии (долина Неарденталь), с соответствующим генетическим материалом современного человека. В последовательности из 370 нуклеотидов отличия наблюдались по 27 позициям (7%), тогда как у современных людей самых разных рас максимальное различие наблюдается только по 8 нуклеотидам (2%). В результате удалось установить, что различия в генотипе указывают на расхождение эволюционных линий неоантропа и неардентальца около 600 тыс. лет назад, то есть еще на уровне архантропа, а, следовательно, палеоантропы не являются предками современного человека и представляют собой параллельную тупиковую ветвь эволюционного развития гоминид. Эти результаты были подтверждены в 2000 году независимым исследованием материалов митохондриальной ДНК, извлеченной из костных останков неардентальского ребенка, найденных в Мезмайской пещере на Северном Кавказе и датированных с помощью радиоуглеродного анализа возрастом в 29 тыс. лет.
Все эти данные, взятые в совокупности, могут говорить о том, что первые неоантропы несомненно вступали в гибритизацию с палеоантропами, но в последующем эти метисированные расы вытеснялись все более и более чистыми волнами современного человека.
Разрабатывая теорию о развитии технологических приемов в обработке камня и кости (которые и легли в основу подразделения палеолита на ранний, средний и поздний), ученые недостаточно внимания обращают на факт «демаркационной линии», проходящей между средним и верхним палеолитом, факт, касающийся не утилитарного только, но и религиозного значения отдельных черт культуры, свойственного верхнепалеолитическим находкам. В первую очередь это касается франко-кантабрийской наскальной живописи, известной также и на Урале в Каповой пещере (около 30 тыс. лет назад), а также несомненных свидетельств существования похоронного обряда, а именно использование красной охры – субститута крови; и погребального инвентаря (раковины, подвески, ожерелья и кремневые орудия); что уже само по себе свидетельствует о вере в загробную жизнь (хотя характер этих верований на основании археологических находок уточнить вряд ли представляется возможным). При этом достоверных свидетельств, для того чтобы мы могли говорить о наличии верований у палеоантропов, до сих пор не найдено.
Первые находки останков людей современного типа совпадают по времени с первой половиной рисс-вюрмского межледниковья Альпийского региона (известного для Восточной Европы как микулинское, а для Средней Европпы как эемское). Время рисс-вюрмского межледниковья от 130 до 70 тыс. лет назад было эпохой значительных миграций носителей мустьерской культуры (палеоантропов) к северу Русской равнины (стоянки Хотылево I, Бетово на Десне), что может косвенно свидетельствовать и о возможности подобных миграций и для биологических предков т.н. «митохондриальной Евы».
На протяжении этой эпохи было не менее трех климатических оптимумов, наиболее значительный из которых приходится на время, отстоящее от нас на 125 тыс. лет. Среднегодовые температуры были выше современных как в целом по планете (на 1–2°С), так особенно в циркумполярных районах (например, на п-ве Таймыр они превышали современные не менее чем на 10°С). Среднеянварская температура была выше современной и не опускалась ниже – 3°С. В связи с этим тундровая зона совершенно исчезла, ее место заняла тайга. На месте современных таежных лесов произрастали смешанные и широколиственные леса, а такие породы деревьев, как граб, дуб скальный и липа проникали на 500–600 км. севернее их современного ареала произрастания. Ледовитость в Арктическом бассейне полностью отсутствовала.
Большинство ученых с эпохой рисс-вюрмского (микулинского) межледниковья соотносят т.н. бореальную трансгрессию, во время которой моря покрывали обширные пространства Западно-Сибирской и Русской равнины, а Скандинавия была островом (см. рис. 4). По словам И. А. Чистяковой, «микулинское межледниковье можно рассматривать как кратковременный эпизод катастрофического изменения климата, приведший к климатическому оптимуму, в геологическом смысле мгновенному образованию обширного морского бассейна, иcчезновению перигляциальных ландшафтов и возникновению принципиально иной природной обстановки» [109].

Рис. 4: Карта распространения бореального моря
В максимум этой трансгрессии весь север Русской равнины занимало Бореальное море, которое широкими заливами, представляющими собой затопленные долины рек, далеко проникало вглубь континента. Подобная гидрологическая обстановка была и в Сибири, где простиралось т.н. Казанцевское море, заливавшее обширные пространства. Не составляли исключения и арктические области. Как отмечает М. А. Лаврова: «На Земле Франца-Иосифа на высоте около 100 м над уровнем моря отмечались находки плавника и костей тюленя, хотя позднеледниковое поднятие острова не превышало 35 м. /…/ Мощность отложений бореального моря значительна. На Кольском полуострове она достигает более 100 м, в районе Архангельска – около 80 м, в районе Енисея – значительно больше» [56]. Между тем имеются глубокие разногласия относительно атрибуции слоев т.н. «валунных суглинков», встречающихся в толще всего четвертичного разреза: часть исследователей считают их исключительно ледниковыми образованиями, а другие настаивают на их ледниково-морском характере. При этом последние указывают на то, что останки морской фауны встречаются in situ во всей позднекайнозойской толще [109]. Это позволяет рассматривать бореальную трансгрессию как завершающий этап почти непрерывной плейстоценовой трансгрессии, только усилившейся накануне своего окончания за счет интенсивного таяния ледникового покрова.
Что касается верхнеплейстоценовых регрессивных фаз развития морских бассейнов, то важно отметить, что их изучение (и особенно масштаба их распространения) значительно затрудняется тем, что в отличие от трансгрессивных отложений они залегают ниже современного уровня моря, на морском шельфе. И, в сущности, о максимумах регрессий нам известно еще довольно мало. Но мы можем с уверенностью констатировать, что в целом, большинство комплексов ископаемых диатомей, относящихся к плиоцен-плейстоценовым трансгрессиям на северном побережье Евразии содержат холодолюбивые аркто-бореальные виды; что несомненно свидетельствует о морском осадконакоплении в условиях температурного режима, близкого к современному, или более холодного. Это, в свою очередь, позволяет предполагать совпадение фаз регрессий арктического бассейна с периодами максимального потепления первой половины верхнего плейстоцена.
На протяжении рисс-вюрма произошло как минимум две регрессивные фазы развития полярного бассейна, что позволяет допустить существование в эти эпохи больших участков суши за северным полярным кругом на фоне довольно мягкого климата (см. рис. 5). Следовательно, проникновение предков человека в Арктику должно было случиться в начале верхнего плейстоцена, после окончания бореальной трансгрессии.

Рис. 5: Колебания уровня мирового океана за последние 200 тыс. лет (по Вину и Чеппелу [1981]). Дополнительно стрелками обозначены периоды интересующих нас стадий регрессии [9]
Дальнейшие колебания уровня моря, оказались тем фактором, который изолировал изначальное человечество на «островах счастливых» в климатический оптимум микулинского межледниковья, вплоть до наступления ранневалдайской эпохи, которая совпала с регрессией и поэтапным ухудшением климата.
Климатический оптимум и регрессия арктического бассейна стали тем самым «бутылочным горлышком», через которое прошла проточеловеческая популяция, о котором говорят генетики, когда пытаются объяснить ее удивительную малочисленность. Дело в том, что различие между ДНК представителей самых отдаленных (географически и морфологически) рас человека намного меньше, чем у шимпанзе в одном стаде. Поэтому если отбросить предрассудки академической науки, то под словами «митохондриальная Ева» можно понимать совершенно определенную женщину – единственную пра-матерь человечества. Таким образом, арктическая теория происхождения человека в ее современном варианте не оставляет сколь либо длительного периода для эволюции современного человека как биологического вида. Согласно Вирту и Тилаку, вслед за отделением человеческой ветви от других приматов, которое произошло в конце третичной эры, происходила ее независимая постепенная дифференциация в циркумполярном регионе на протяжении эоцена, олигоцена, миоцена и плейстоцена вплоть до появления Homo Sapiens. Однако сегодня мы вынуждены признать, что появление неоантропа в виде изначальной северной расы завершилось в несопоставимо более короткий период и укладывается в первую половину верхнего плейстоцена, когда потомки «митохондриальной Евы» впервые проникли в Арктический регион. Другими словами, на современном этапе развития антропологической науки, мы подходим к вопросу о необходимости пересмотра того, насколько вообще теория эволюционизма приложима к проблеме антропогенеза.
Как уже говорилось, во время раннего вюрма основная часть очень немногочисленных в то время представителей изначального человечества должна была еще оставаться в циркумполярном регионе, поскольку самые ранние из известных сегодня находок Homo Sapiens sapiens никак не связаны с характерной для неоантропа верхне-палеолитической культурой, которая появится в Европе лишь спустя 60 тыс. лет.
Время возникновения верхнепалеолитических памятников (особенно в этом смысле показателен нижний слой пещеры Ишталлошке, костные изделия которого имеют радиоуглеродный возраст 39.700 ± 900 и 44.300 ± 1900 лет) приходится на средневюрмское потепление и связанное с ним некоторое поднятие уровня мирового океана. Появление верхне-палеолитической культуры, характеризующейся более изящными и совершенными орудиями по сравнению с предыдущими эпохами, можно обозначить как настоящий культурный взрыв. Некоторые из этих орудий, изготовляемых из рога, кости, кремня, украшались резьбой. В рамках верхне-палеолитической культуры уже существовал развитый погребальный обряд, а также наскальная живопись, в том числе в виде линейных знаков, разбросанных между изображениями животных. За пределами Европы верхнепалеолитическая культура известна только на Ближнем Востоке, что касается Африки и Азии верхний палеолит в традиционном понимании в этих областях вообще неизвестен. По словам М. Д. Гвоздовер, «в это время вся ойкумена делится на две провинции: в одной из них верхний палеолит со всеми его характерными проявлениями, в другой – верхний палеолит как археологическая эпоха не выражен. В отложениях, соответствующих по времени верхнему палеолиту Европы, на этих территориях встречаются даже реликты примитивной культуры ашельского типа, известной еще со времен архантропов» [57]. Это, несомненно, объясняется отсутствием в Азии носителей верхнепалеолитической культуры, которые еще недалеко продвинулись от своей арктической прародины. В Европе верхнепалеолитическая культура появляется синхронно с кроманьонцами, которые были непосредственными потомками изначальной расы Арктического континента, отличавшейся высоким ростом (до 180 см.), прямым лбом, отсутствием сплошного надбровного валика, развитым подбородочным выступом, который способствовал хорошему развитию речи.
Промежуток времени между древнейшими неоантропами и внезапным появлением этой культуры вместе с крупной волной миграции кроманьонского человека занимает эпоха нового оледенения (определяемого для Восточной Европы как валдайское, в Альпах как вюрмское, в Северной Европе – вислинское, в Северной Америке – висконсинское), которая началась в Европе с похолодания около 70 тыс. лет назад.
Изменения климата протекали синхронно с поэтапным осушением шельфа северных морей. В ранневюрмскую эпоху регрессия по оценкам разных авторов достигала от 100 до 250 метров. Ледовитый океан оказался изолированным от других океанических бассейнов: на востоке Берингов пролив был осушен, а на западе прекратилось поступление атлантических вод и Гольфстрим не проникал севернее 40° с.ш., что может объясняться наличием суши между шельфовыми пространствами северо-западной Европы и Гренландии.
Пробы льда, взятые в Гренландии, говорят о многочисленных периодах резких перепадов температуры и влажности на протяжении этой эпохи, продолжавшихся от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Причем в наиболее теплые периоды температура приближалась к современной, в то время как при максимальных похолоданиях сравнивалась с последним ледниковым максимумом.