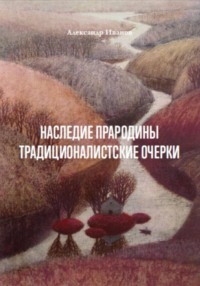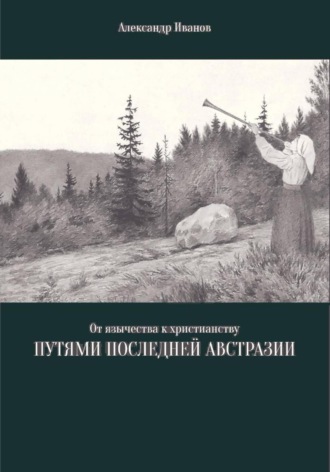
Полная версия
От язычества к христианству. Путями последней Австразии
При этом следует отметить, что, несмотря на всю оккультную составляющую учения Вилигута, местами доходящую до откровенно бредовых идей, более взвешенная и научно-обоснованная доктрина Вирта уступает «ирминизму» полным отсутствием культово-обрядового выражения, возможного у Вилигута благодаря инициатической линии передачи, к которой, по его собственным словам, он принадлежал, являясь потомком древних германских королей-жрецов.
Отличия концепций представленных выше авторов, касаются как отношения к первоисточникам, так методологии и личностного неприятия. Например, северогерманское собрание культовых песен – Эдда, для Горслебена – «один из самых богатых источников арийской интеллектуальной истории», а для Вирта – «лапландско-финский оккультный хлам». А одного из единомышленников Вилигута – Гюнтера Кирхгофа, ученые института «Наследие предков» (Ahnenerbe), основанного Германом Виртом, в своем официальном отчете прямо назвали «фантазером худшего толка», а его работы «вздором». Но, несмотря на все это доктрины Вирта, Вилигута и Горслебена сходятся в главном: все они считали дохристианскую традицию германцев состоящей как бы из двух противных друг другу систем – в первой из которых почитался Бог-Сын, Свет Мира и Откровение Единого Бога; а во второй – Вотан и его демоническая свита, Wildes Heer («Дикая охота»), причем именно благодаря последнему, первая и древнейшая религия находилась в упадке, а затем окончательно была уничтожена историческим христианством в неправильно истолкованной «миссии Белого Христа».
О том, что эти учения немецких авторов о двух германских традициях не являются «кабинетным мифом», говорят уже самые общие сопоставления с родственной греко-римской традицией, в которой зафиксирован миф о свергнутом с небес Боге «Золотого века» Уране-Сатурне и его сыне Аполлоне, на смену которым пришли многие божества язычества под предводительством Зевса-Юпитера.
Гораздо сложнее объяснить соотношение ариософии с христианством. Понятно, что представленные выше концепции никак нельзя признать христианскими. Но так происходит в первую очередь потому, что вся германская ариософия начала XX века развивалась в духовном вакууме «условно-христианской» западной традиции. Первая попытка православного осмысления накопленного европейскими мыслителями материала принадлежит русскому философу Александру Дугину, благодаря которому мы узнали еще об одном пути поиска духовной истины – европейском традиционализме. Именно Дугин открыл для нас имена Рене Генона, Юлиуса Эволы и многих других, включая уже упомянутого Германа Вирта. И именно он впервые применил методологию традиционализма к исследованию русской традиции. Можно смело сказать о том, что вся традиционалисткая русская мысль существует отныне только в качестве того, что было «до» и «после» Дугина[2][1].
Синтез традиционализма с ариософией, при котором последняя может быть избавлена от свойственного ей оккультизма с «прикладной магией» и обогащена идеями полярной примордиальной традиции – единого истока всех религий и культов, закономерно приближает нас к христианской метафизике – наиболее близкой нам и наименее изученной доктрине. Кроме того, признавая фундаментальную значимость инициации, традиционализм позволяет говорить о сакральной легитимности того или иного культа или учения и, в конечном итоге, об их Божественной либо демонической («контр-инициатической») инспирации[3][1].
Оставаясь на твердой почве христианской ортодоксии, мы можем сделать ряд существеннейших поправок к ариософским изысканиям западных мыслителей и увидеть представленные ими доктрины в совершенно ином свете.
Прежде всего, не отрицая наличия некоторых ренессансных течений в Индии и напряженного ожидания прихода Сына Божьего на территориях Римской империи (в т.ч. и в германских землях), выразившегося в появлении синкретических культов Богини-Матери и ее сына – Логоса, мы все же должны отметить, что возрождение и исполнение Изначальной традиции, произошло на землях северной Европы именно благодаря исключительной роли пришествия Сына Божия, который явился как Сын человеческий, с присущей нам душой и волей, на Ближнем Востоке два тысячелетия назад.
Что же касается феномена кельтской (ирландской) церкви, то она, должна рассматриваться, как поместная православная церковь. С восточной христианской традицией она непосредственно связана исторически, через своего основателя св. Патрика. Его учителями были св. Иоанн Кассиан и св. Герман Оксеррский, которые еще в юношестве вместе отправились в Палестину, а затем в египетские монастыри. В 400 г. по Р. Х. они посетили Константинополь и св. Иоанна Златоуста, который рукоположил Иоанна Кассиана в диаконы. Позднее в Галлии св. Герман Оксеррский рукоположил в дьяконы будущего «крестителя Ирландии» св. Патрика.
В Ирландии, как и на православном Востоке, очень хорошо понимали, что обожение человеческого существа не находится в необходимой связи с отречением от собственной народности. Там также помнили о том, что прародитель Адам, будучи пророком и после грехопадения, обладал некогда изначально чистым Богомировоззрением, и обетование о его возвращении потомкам первого человека, то есть «роду христианскому», о котором говорит апостол Павел, – это не только приобретение чего-то нового, но и возвращение утраченного. Отсюда проистекает независимость ирландской христианской традиции от ориентального культурного комплекса и ее насыщенность изначальным северным символизмом. Широкое распространение в среде кельтских христиан получило использование рунических знаков: ᚷᚷ – «рожденный от»,

– руна «Жизни Божией», Знак Года ᛰ; как и сама форма широко известного «кельтского креста» –

, и пр. Этим и объясняется та особая симпатия, с которой относился к ирландской христианской традиции Герман Вирт.
Разумеется, то же самое мы можем сказать и о православной традиции Русского севера. В отличие от ирландского Православия, которое было окончательно уничтожено к XII в., после уклонения в ересь и отпадения от вселенского единства самого католического Рима, русская православная традиция жива и поныне. Мы знаем, например, многочисленные поклонные кресты, установленные у дорог и на берегах рек, как правило представляющие собой расположенное в средоточии изображение распятия, от которого расходятся, расширяясь к периферии, лучи, упирающиеся в окаймляющую их окружность. Исходя уже из самой такой формы, можно сказать, что их символический смысл не ограничивается только напоминанием о смерти Христа (являющейся хоть и центральной, но только частью композиции), а расширяется до многогранного метафизического «животворящего» символа, запечатленного не только в евангельской истории, но и в циклическом устройстве вселенной, так же как и в устройстве человеческого и ангельского бытия (см. рис. 1).

Рис. 1: Крест из Софийского собора в Новгороде.
Об этом «надмирном» смысле символа распятия, говорящего не о позорной смерти «царя иудейского», как то хотел показать язычник – Пилат (Марк 15:26; Иоанн 19:19); но об искупительном страдании Бога и Спаса за человечество, возводящего всю сотворенную природу к Богообщению, говорит древнее православное начертание на верхней перекладине традиционного изображения восьмиконечного креста – «Царь Славы, Исусъ Христосъ». Об этом, в частности, увещевая отступников от «древлего благочестия», говорит автор т.н. «Выговского сочинения» (XVIII в.), в котором утверждается правота дораскольной традиции Русского севера: «Вы уже вси /ошибающиеся – А. И./ от давних времен уставляете новомудрствующе, не токмо Пилату, яко язычнику, согласная пишуще на кресте четыре литеры сия /I Н Ц I/, знаменующия Исус Назарянин, Царь Иудейский: но и латином, и лютером, и кальвином, и никоновых времен новонаставшему согласному вышеозначенным подписанию. Но Церковь древлеправославная грекороссийская и апостольская гласит боголепными написании, еже есть Царь Славы, Исус Христос, Ника: всеми старопечатными книгами, разных выходов…» [70]. Именно такое надписание, представлнное в виде монограммы – I.Х.Ц.С., соблюдалось в русской церкви вплоть до раскола XVII в., когда восторжествовала позднегреческая редакция, которая была заимствована потомками эллинов с латинского Запада: «Ιησους Ναζωραιος Bασιλευς των Ιουδαίων» из «Iesus Nazareus Rex Iudaeorum».
И сегодня путь к русскому Богосознанию открывает для нас все та же православная традиция Русского севера, который в большей степени, чем какую-либо другую область, обходили стороной и оккупация инородцами, и греко-латинское влияние эпохи Никона, и более поздние западнические реформы послепетровской эпохи. Это тем более стало возможно после поместного собора Русской Православной церкви 1971 г., когда обряды и обычаи «древлего благочестия», все еще сохраняемого в народе, были наконец полностью реабилитированы, и открыт путь к единоверию, свободный как от сектантской замкнутости и неразличения догмата и чина, свойственной старообрядческим общинам; так и от «теплохладного» вырождения постниконианской церкви.
Возвращаясь к проблематике внешних черт православной традиции, свободных от обязательной привязки к культурному наследию Востока, воспроизводящей сугубо северные (и общечеловеческие) изначальные культурные черты, следует отметить, что хотя на Руси и не сохранилось рассказов, подобных тем, что говорят об ирландском (и общеправославном) святом Колумбе (VI в. по Р. Х.), который открыто встал на защиту поэтов-филидов (чуть было не изгнанных королем Аодом из Ирландии за их «языческие симпатии»); но тем не менее мы знаем о богатой традиции русских духовных стихов, былин и волшебных сказок, от которых и не думала отказываться православная Русь.
Речь ни в коем случае не идет о создании нового христианства или новой христианской конфессии, ни даже о какой бы то ни было реформации. Напротив, разговор ведется о религиозном консерватизме – внимательном и вдумчивом отношении к нашей собственной религиозной архаике. Ведь те методологии, которые в Европе приводили к возникновению суррогатного, замутненного мистицизма, а зачастую и к «клиническому» помешательству, только попав на благодатную почву русского Православия, могут принести свои истинные, пред-уготовленные плоды.
Что же остается неоязычникам? Прежде чем перечеркивать тысячелетнюю русскую историю, уподобляясь не так давно ушедшим назад в историю последователям Энгельса, и сменившим их на этом поприще «не холодным, и не горячим» строителям «открытого общества», этим «ласковым убийцам» Традиции, им следовало бы прислушаться к опыту наиболее последовательных и ярких представителей собственного лагеря, доказавших свою приверженность т.н. «древним богам» всей своей жизнью.
Таковой была Савитри Деви, урожденная Максимилиани Партас (1905–1982). Она родилась во Франции, но ее мать была англичанкой, а отец греком. Поэтому можно сказать, что Савитри была по-национальности "арийкой"; что несомненно влияло на ее восприятие интегрального индоевропейского мистицизма, как чего-то естественного и самого по себе разумеющегося. Все основные темы разных представителей неоязычества воплотились в ее литературных трудах: экологизм, расизм и анти-христианство (понимаемое как частный случай антисемитизма). Однако среди всех ариософов и «ряженых реконструкторов» Савитри Деви выделяется своим серьезным отношением к Традиции: признавая необходимость инициации она не изобретала новых культов, а обратилась к единственной (из известных в то время европейцам) актуально существующей индоевропейской "языческой" традиции: выйдя замуж за индуисткого брахмана Шри Асит Кришна Махержи она стала легальным представителем индуизма. Именно поэтому ее высказывания заслуживают самого внимательного прочтения.
В одной из своих книг она описывает свое посещение мегалитического памятника Externsteine на востоке Вестфалии такими словами: «Я почувствовала себя странником, который проделал долгий путь из очень далекого края, имея перед собой ясную цель, и наконец обрел искомое. Теперь я достигла… наивысшей точки моего странствия по Германии, да и по жизни. И это счастье. Я достигла Источника, где могу пополнить свои духовные силы для вечной Борьбы – в ее современном обличии: Борьбы Сил Света против Сил Тьмы… с ними я сражалась и буду продолжать непримиримую борьбу. Я вглядывалась в темно-серые скалы неправильной формы, и мои глаза застилали слезы. …Поражение не сломило нас, оно лишь немного ожесточило нас и сделало немного более беспощадными. Однажды мы отомстим за вас, изувеченные Скалы, звавшие нас так долго, и за вас, наши старшие братья, воины, которые умерли, защищая подступы к этим вершинам! Где бы я ни была, когда забрезжит свет нашего Дня, пусть небесные Силы даруют мне возможность вернуться и присоединиться к делу отмщения!» [115].
Этот достаточно громозский пассаж приведен здесь только для того, чтобы проиллюстрировать типичные для неоязычника-традиционалиста интонации эсхатологизма и продолжающейся трагедии. В этом нехристианском модусе бытия, достигнув «нивысшей точки…странствия… по жизни» Савитри получает не утешение и силы для «положительного действия», а напряженное отрицание: слезы и иссушающее душу ожидание мести. И далеко неслучайно то, что незадолго до смерти, Максимилиани Партас, которая не разлядела истинного Света Мира, «просвещающего всякого, входящего в мир», ослепла в самом прямом смысле этого слова.
Она прошла мимо, едва не заметив Его, когда с восхищением писала о древней вере возрожденной в XIV в. до Р. Х. египетским фараоном Аменхотепом IV (1364–1347 до Р. Х.), прозванным Эхнатоном, «пусть неизвестной нам, но, тем не менее, превосходящей все верования, которые исповедовало человечество» [116]. Вдохновленный традицией Золотого века, Эхнатон верил в Единого Бога, скрывавшего свой незримый лик в символе Солнца, Атона-Ра. Именно с религиозной реформой Эхнатона можно связать деятельность Моисея, посвященного «во всю мудрость египетскую» и воспитанного дочерью фараона, который после падения в Египте культа Единого Бога, заставил вспомнить о вере праотцов народ к которому принадлежал он сам. О той вере, которая была также как и в Египет, принесена некогда на Ближний Восток предками «белых ливийцев», носителями культуры мегалитов. Поэтому ветхозаветная традиция Израиля доносит до нас многие символические детали, унаследованные ей от этой культуры времен царя Салима Мелхиседека, с которым столкнулся и которому воздал почести прародитель семитов Авраам.
В качестве предварительной иллюстрации можно указать на потрясающие совпадения библейской традиции с мегалитической культурой. В первую очередь следует вспомнить о кромлехе, возведенном по приказу Исуса Навина (Нав. 4:20; 5:9), который представлял собой двенадцать необработанных камней, выложенных кругом и ориентированных по сторонам света. Местное предание сохранило свидетельство о существовании в VII в. по Р. Х. христианского храма в месте, где изралитяне перешли Иордан, в абсиде алтарной части которого располагались необработанные камни, выложенные вдоль стен, шесть из которых были обращены к северу, а шесть к югу [68]. Повеление о возведении подобного памятника содержится и в книге Второзаконие (27:1–8). Согласно его тексту на этих больших, ничем необработанных, но обмазанных известью камнях, были начертаны слова Закона, полученные в Божественном Откровении пророком Моисеем. Подобный жертвенник, но дополнительно еще окруженный рвом, позднее возвел и пророк Илия, для посрамления жрецов Ваала (3 Цар. 18:30–32). И, наконец, можно вспомнить изображения дольмена на крито-микенских печатях в виде алтаря, перед которым предстоят жрицы. Сверху располагается рогатая капитель, на навершиях которой зачастую находятся две птицы. Изображения таких капителей встречаются не только на Балканах, но и в окрестностях Генисаретского озера в Галилее. Но ведь они практически повторяют Ковчег Завета, который представляется переносным вариантом, того же памятника, приспособленным к условиям кочевой жизни древних израильтян (см. рис. 2).

Рис. 2: Печать с о. Крит и изображение алтаря в Микенах
И здесь хочется повторить вопрос Р. Багдасарова, полностью созвучный основной мысли книги: «Если бы не революция, по кусочкам разметавшая причудливое здание Православной Империи, кто знает, не появились ли бы в храмах очередные иконы «внешних» мудрецов, а среди них Аменхотеп IV и его супруга Нефертити, ставшие известными лишь на рубеже столетий?» [5]. Новая религия была утверждена фараоном не без влияния своей жены – знаменитой египетской царицы Ниффертити (букв. «Красавица пришла»). Существует предположение, что Ниффертити – это митанийская принцесса по имени Тадучепа (или Тадухеппа), в пятнадцатилетнем возрасте попавшая в Египет, ко двору Аменхотепа III, а после ставшая женой его сына. Митанийское происхождение возможно имел и сам Эхнатон. Мы знаем, что «после семи прошений царь Митанни отдал свою дочь фараону Египта» – имеется в виду, восьмой царь восемнадцатой династии Тутмос IV. Его сын Аменхотеп III женился на Тиу (Гилухеппе), дочери жреца Юаа (Юй, Юа) и его жены Тиау. Юаа был выходцем из «Северной Сирии» (т.е. государства Митанни), а его жену митанийский царь Душерата в письме к Эхнатону называет «моя сестра». Сыном Аменхотепа III и Тиу (Тейе, Тии, Тия) был Эхнатон, который т.о. на 3/4 являлся митанийским арием [114].
Но что мы имеем сегодня? Наш мир по своей сути – это мир отрицания Традиции. Тезис о «смерти Бога», высказанный Ницше более ста лет назад, стал реальностью и на Западе и на Востоке. «Это значит, – поясняет Хайдеггер, – «христианский Бог» утратил свою власть над сущим и над предназначением человека. /…/ Не исключено, что в этого Бога еще долго будут верить и считать его мир «действительным» «действенным» и «определяющим». Это похоже на то явление, когда свет тысячелетия назад погасшей звезды еще виден, но при всем своем свечении оказывается чистой видимостью!» [105]. И хотя немецкий мыслитель имеет в виду итог развития специфичной европейской (читай «греко-немецкой») филосовской традиции, в которой понятие «христианского Бога» существенно отличается от его собственно христианского понимания, мы можем сказать, что с распространением европейской культуры и европейского образа мысли катастрофа Богоубийства свершилась в глобальном масштабе. Сегодня Традиция рассматривается исключительно как явление человеческой культуры – «окрошка» из случайностей и заимствований.
Отсюда проистекает отношение к русскому Православию как к одной из многих «христианских конфессий» и, что еще удивительней, как к «язычеству в христианской оболочке». При этом обращает на себя внимание совпадение взглядов на русское Православие у современных неоязычников и у последователей криптохристианских ересей как на «ариезированную» (или «о-языченную») ветвь христианства. Представляя собой, как кажется на первый взгляд, кардинально противоположные мировоззрения, они тем не менее солидаризируются в своем отношении к Православной вере как некоему ненужному и вредному компромиссу между собственными доктринами. В неспособности признать за Православием его целостность и внутреннюю логичность от них ускользает самая суть проблемы, которая заключается в наличии или отсутствии полноценной метафизики. Метафизики как учения, которое находит непосредственное подтверждение в мистическом религиозном опыте, качественно превышающем онтологический уровень мира и любые психологические состояния человеческого существа.
Апологеты «возрождения веры предков», понимаемой как исторически засвидетельствованное язычество, вольно или невольно хотят вновь втянуть нас в примитивный магизм, представляющий собой не Изначальную веру человечества, а, напротив, позднейшие ее искажения; упадок, вызванный энтропийным током истории. Но еще дальше в забвении метафизического содержания Традиции пошли квазихристианские секты: догадываясь об ущербности язычества, они сознательно отвергли всякую метафизику вообще, превратив Священную Традицию в некое подобие морально-этического учения. Поэтому и те, и другие на самом деле принадлежат одному духовному (или точнее обездушенному) полюсу, противоположному православной вере.
Что касается присутствия индоевропейских архаизмов в русском Православии, то следует в первую очередь осознать, что народ русский, славянский (и индоевропейский) по крови, от самого своего начала был предуготовлен к принятию учения Христа, обладая тем, что св. Иоанн Кронштадский называл «талантом к православной вере». В этом смысле, наличие национальных архаизмов, органично влившихся в христианство, как если бы они заняли заранее пред-уготовленное им место, обусловлено как раз этим самым «талантом», который несомненно был присущ народам Севера и до крещения. В этой связи очень точным является указание русского философа и богослова В. В. Зеньковского: «…язычество (с христианской точки зрения) есть лишь затмение – в разных сторонах, в разной степени – того изначального богосознания, которое родилось в раю, когда Бог беседовал с прародителями. В своей основе это богосознание никогда не умирает, но оно неизбежно затемнялось в историческом движении человечества, менялось, обрастало рядом мифологических дополнений. /…/ Сверхисторическое в Христианстве (т.е. Откровение) есть ключ ко всей истории религии, в том числе и к тому, как вбирало в себя христианство (на путях «рецепции») различные доктриниальные, богослужебные, аскетические положения, которые сложились в язычестве до пришествия Христа» [44]. Но сегодня и среди уважаемых в церкви людей можно встретить такое высказывание: «Изучение древних культов, реконструкция изначальных представлений, подобны копанию в куче навоза, с целью обнаружения в ней крупинки золота, тогда как рядом лежит огромный самородок чистейшего золота Православной веры». Что можно ответить на это? Достаточно даже беглого взгляда на историю церкви, чтобы увидеть, что на всем ее протяжении враг Бога и человека пытался привить пагубную ересь: Христос не был Сыном Божьим, а только человеком (пусть даже лучшим из людей!), а следовательно, нет надежды, нет обожения, нет Спасения миру, который «прах есть и в прах возвратится». Акцент на «нордических» аспектах культурологической составляющей традиции сам по себе, конечно, не является гарантией безопасности «здравой веры» и ее истины, но подрывая ложный пиетет перед "ex oriente lux", он освобождает сознание от служения чуждой (и чужой) концепции, которая является одним из условий для разложения православного учения изнутри.
Напротив, нам следует обращать внимание на утверждение собственной духовной культуры, важной особенностью которой является «всечеловечность», которая была ясно опознана Ф. М. Достоевским вместе с вытекающей из нее сверх задачей «окончательного и всечеловеческого просвещения», прежде всего народов Европы, индоевропейцев (в библейской терминологии используемой Достоевским «Афетова племени»). «В первую очередь…», но что особенно важно не только их, но и всего человечества…»[4][1].
Под этим, прежде всего, подразумевается распространение того, что Н. Я. Данилевский называл «славянским культурно-историческим типом» [28]. Хотя сам Данилевский и отрицает всякую общечеловеческую задачу в истории; но дело в том, что «славянский», а правильнее на наш взгляд говорить «русский культурный тип», хотя и назван так этим автором, не носит этнический изоляционистский характер, поскольку развившись в лоне Вселенского Православия, как основную характеристику несет в себе универсальность. В последней, и заключается его уникальность.
Что мы имеем в виду, приводя казалось бы, взаимно исключающие друг друга характеристики? Универсальность – это внутренняя, сущностная характеристика нашего культурного типа, тогда как уникальность – есть следствие отпадения мира от своих корней и забвения своей Изначальной Традиции. Поясним это на примере. Сегодня часто мы можем услышать вопрос: европейцы ли русские? Наш ответ таков: да, но такие, которые населяли Европу тысячу лет назад (разумеется с поправкой на научно-технический прогресс, который не находится ни в какой необходимой связи с эволюцией или вернее инволюцией народного характера), еще до того как распалось изначальное этническое единство Европы. Именно поэтому, как точно выразился А. Блок: «Нам внятно всё – и острый галльский смысл, / И сумрачный германский гений…».
Отсюда вытекает объединительная имперская идея России уже как государства. Естественно речь идет не о современном состоянии русских (и других коренных народов России) которое плачевно. Разговор ведется об их судьбе, предназначении и идеале. Что касается последних десятилетий нашей истории, то вспоминаются слова Достоевского: «Русский без православия – дрянь». Современные русские люди – продукт отчуждения от сакрального; внешние, которым приходится возвращаться. Вольно или невольно, но все мы несем на себе отпечаток ложного, западного восприятия христианской Традиции.