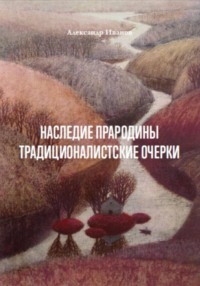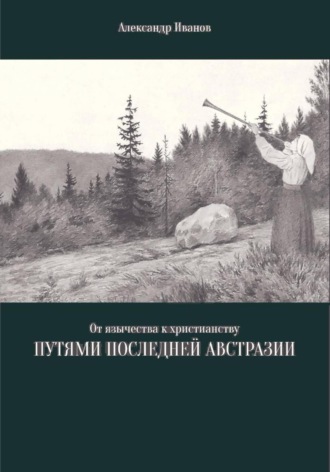
Полная версия
От язычества к христианству. Путями последней Австразии
Задача русского возрождения состоит в том, что нам необходимо стать гуманистами, в изначальном римском понимании этого слова (от латинского humus, «земля», «почва»), выражаясь словами Достоевского «вернуться с Луны, к народу своему». Это значит, в первую очередь, признавать и осознавать субъектность народа, который представляет собой не совокупность атомарных индивидов и не безличную массу потребителей материальных благ, но носителя и хранителя – «катехона» Сакральной Традиции, выраженной в характере, языке и всех формах искусства – в том, что упрощенно называют «мировоззрением», и обладающего при этом собственным, независимым от человека-индивидуума правом и судьбой. И когда мы сможем осознать и удержать это, тогда раскроется вся полнота парадоксального «русского культурного типа».
Если наши предшественники опознали эти признаки в характере русского народа, то задача нас, сегодняшних, попытаться объяснить их. Понятие «всечеловека» отсылает нас к понятию об «изначальном человеке», культура которого, его мировоззрение лежит в основании всех без исключения последующих цивилизационных типов. Изначальная традиция, заключающая в себе зачатки всех возможных способов осмысления мира и места человека в мире, с необходимостью подчиняется тем же критериям истинности, которые приводит в своем высокоавтритетном сочинении «Commonitorium» св. Викентий Лиринский (V в. по Р. Х.), с целью защиты православного вероучения от возможности лжетолкования и следования по «царскому пути здравой веры». Имеются в виду: всеобщность (universitas), древность (antiqitas), согласие (consentio). Первый из этих критериев означает «то, во что верили повсюду», второй – «то, во что верили всегда», и наконец, третий – «то, во что верили все». В приложении к Изначальной традиции человечества они выступают как принципы: она по определению является Традицией Северной Прародины, то есть всей обитаемой тогда ойкумены; древнейшей и при этом единой традицией для всех живших в те времена людей.
Ценностные ориентиры именно этого мировоззрения авторы начала XX века не совсем точно называли «арийским идеалом». Если мы вспомним значение слова «арий», переданное нам арийскими же мудрецами – «риши»: «тот, кто «принадлежит к друзьям», «благородный»; то нетрудно будет заметить, что оно недалеко по смыслу от того понятия, которое Ницше определял как «аристократически-рыцарский идеал», противопоставляя его «жреческому идеалу», характризующемуся как слепая ненависть ко всему созидательному, иеархаичному, как преклонение перед слабостью и хаосом. Но этот «жреческий идеал» принадлежит, скорее, не Священной Традиции, а оккультизму и всем видам «-софий» новейшего времени и противен русскому духу не менее немецкого.
Вспомним императора Юлиана, а именно тот случай, когда он приказал устроить на улицах Константинополя процессию во славу Диониса. Но вместо воскрешения античного благородства император-отступник, вопреки своему желанию, увидел нелепый карнавал буйной пьяной толпы; и как следствие получил для себя лишь горькое разочарование. И даже ему стало ясно, что солнце язычества зашло и античный мир, наполненный низовым оккультизмом и магией, которая даже для героев Гомера выглядела бы только святотатством, не в силах возродить свою былую славу. Ведь Священная Традиция, уже по своему определению не являясь продуктом человеческой рассудочной деятельности, не может вернуться только благодаря нашему желанию. Такая попытка всегда будет оставаться только одной из множества возможных «кабинетных реконструкций» и не более того. Эта горечь утраты, прочувствованная Юлианом, была свойственна позже всем сознательным неоязычникам, вплоть до Савитри Деви.
На самом деле не «тайные учения» и не сотни различных реконструкций представляют собой ту самую искомую «аристократию Духа», а Православие, закрытое от нас атеистическим воспитанием и протестанско-рационалистическим налетом на самой русской церкви, который обязан своим возникновением многовековому западному влиянию. Поэтому не магизм язычества, эксплуатирующий самые низкие чувства и желания человека, а христианство, более всего соответствует «арийскому характеру», которому мы обязаны распространением обновленной веры, преимущественно среди народов Европейского Севера. Той веры, вместе с которой вновь вернулись имена Бога-Отца, Бога-Сына и Божьей Матери, и зазвучали в храмах, построенных потомками того пра-народа, что тысячелетия назад последним покинул Изначальную Северную Прародину.
Следует отдавать себе отчет в том, что ни одна из «языческих» традиций (будь то существующие сегодня, как например индуизм, синтоизм, и отчасти парсизм, бон или существовавшие на протяжении I тыс. после Р. Х.), взятые порознь, не могут приблизить нас к верованиям Изначальной Традиции. Поскольку сами носители народного предания зачастую не догадываются о содержащемся в нем смысле. А именно о том, что предание представляет собой скрытое послание древности об истинах над-природного, метафизического порядка. Например, знак шестиконечного креста – ᛡ или

, обозначающий Логос, «Слово неба», для белорусских крестьян XIX века, равно как и для их языческих предков в IX веке, означал только «знак Перуна», охранительный талисман, посредством которого можно защитить от удара молнией свой дом и не более того; а затем он вообще утратил всякий смысл, превратившись в орнаментальное украшение, доступное лишь неосознаваемому эстетическому чувству. Доступ к изначальному смыслу мы получаем только путем сравнительного анализа наиболее архаичных слоев традиции, привлекая материал палеоэпиграфики, компаративистики и сравнительной мифологии, о которых не имели понятия носители языческой традиции.
Речь здесь идет не о реконструкции Изначальной Традиции, как восстановления при помощи рационального мышления некогда утраченного нечто, а в обнаружении этой реконструкции в нашем настоящем, как уже свершившегося события в народной вере наших предков. И принимая ее как свершившийся факт, с помощью инструментов рационального научного метода, мы лишь уточняем ее, превращая аксиоматичную констатацию русского сознания в интеллектуально постижимую реальность.
Восприняв христианскую веру, являющуюся возрождением, и что еще более важно пре-исполнением изначального «Бого-миро-воззрения», русский народ получил возможность трансформации в народ изначальный, в котором представлены качества «адамической природы» до ее падения. Именно отсюда проистекает его «всечеловечность». Но не та, что предлагается врагами Традиции как смешение всего и вся в некоей хаотической эклектике, а как его индивидуальное и неотъемлемое внутреннее качество, его selbst («самость»), которая навсегда разделила в человеческом то, что создано «по образу и подобию Бога» от наносного животного подобия, происходящего от этого самого смешения. Акцент на народном толковании Православия, гуманизм (от лат. humus, «почва») в вопросах веры позволяет нам расширить горизонты понимания вселенского качества церкви, давая возможность рассматривать христианство как возвращение и исполнение изначального Богомировоззрения.
Подводя итог нашим предварительным размышлениям, еще раз повторимся: Россия уникальна, но эта ее уникальность в существе своем универсальна, поскольку она заключается в сохранении наиболее архаичных черт мировоззрения, свойственных некогда предкам всех народов. А потому не в пышных залах эпохи Екатерины Великой должны мы искать свою имперскую идею, а на берегах холодного Белого моря, некогда омывавшего нашу Изначальную Прародину, среди крестьян, в глубине исконного русского народа. Пусть как напоминание об этом прозвучат для нас сегодня слова Христа: «Вы есте соль земли: аще же соль обуяетъ, чимъ осолится… (Мф. 5:13)»[5][1].
Глава 1. Арктическая прародина
1.1. Антропогенез и палеогеография
Прежде чем непосредственно приступить к интересующей нас теме, а именно к реконструкции традиционных представлений изначального человечества и их сравнению с православным вероучением, мы должны остановиться на предварительном, но необходимом рассмотрении теории северного, полярного происхождения человечества, которой мы так или иначе будем касаться на протяжении всего нашего исследования. Несмотря на веские доводы, приводимые исследователями в подтверждение арктической теории происхождения человека, она по-прежнему замалчивается. Это связано, в первую очередь, с инерциальностью сознания многих «серьезных» ученых. Перефразируя слова выдающегося голландского филолога, профессора Германа Вирта, они до сих пор пребывают в психозе ex oriente lux («свет с Востока»), который владеет их умами «в качестве навязчивого гуманитарно-теологического представления».
Пожалуй, первым трудом, посвященным теории северного, арктического происхождения человека, стала книга американца Вильяма Уоррена «Найденный рай. Колыбель человечества на Северном полюсе», которая впервые увидела свет в Бостоне еще в 1885 году [117].
Автор сближает проблему изначальной прародины с вопросом о месторасположении библейского Эдема, из которого были изгнаны прародители человечества Адам и Ева. Начав с того, что ни средневековые европейские легенды о путешественниках, достигших рая, ни древние или современные автору теологи, равно как этнологи и антропологи, не приводят убедительных сведений о возможном месторасположении земного рая, Уоррен замечает: «Из прочтения предыдущих глав может создаться впечатление, что, какое бы воображаемое место Ган-Эдема из Бытия не было предложено, оно исследовано и найдено неприемлемым. Осталась, однако, одна область, которой наиболее редко уделяли внимание астрономы, физики и специалисты по исторической географии – это естественный центр единственно-исторического полушария. При обсуждении привлекательности этого сюжета, а также неисчерпаемого количества связанных с ним выдумок, замечательно, что именно завершающим годам XIX века досталась обязанность разрабатывать и серьезно испытывать суть предположения о том, что колыбель человечества, Эдем изначальной традиции, находился на северном полюсе, в области, затопленной во время всемирного потопа».
Однако при утверждении такой гипотезы Уоррен сразу столкнулся с проблемой доказательства самой возможности обитания человека на широтах, где огромные площади заняты ныне водами Северного Ледовитого океана, а немногочисленные острова скованны вечной мерзлотой. Поэтому целую главу он посвящает доказательствам того, что, во-первых, в древности арктические области представляли собой значительные по размерам участки суши, которые сегодня находятся ниже уровня океана; а во-вторых, того, что некогда климат Заполярья был намного мягче современного.
Конечно, в конце XIX века палеогеографические знания были еще крайне скудны, но уже тогда геологи не считали первоначальным современное распределение суши и моря. В частности, было известно о существовании на рассвете Третичного времени, в эпоху эоцена, обширного континента в арктических широтах. В доказательство Уоррен приводит высказывания наиболее авторитетных ученых своего времени: геолога Ч. Лайеля, Д. Гейке, А. Уоллеса, полярного исследователя барона Норденшельда и др.; из которых следует, что на рассвете Третичной эпохи в Арктике существовал древний континент, объединявщий Европу и Северную Америку; а также и то, что на этом континенте царил субтропический или умеренный климат.
Другим автором, развивавшим в своих трудах теорию арктической прародины, однако в более узком ключе, а именно в вопросе происхождения ариев (которые у него равнозначны всем индоевропейцам вообще), был индийский исследователь вед Бал Гангадхар Тилак (к его труду «Арктическая родина в ведах», посвященному как раз этой теме, мы еще не раз будем обращаться на страницах этой книги). Тилак существенно дополнил геологическую аргументацию Уоррена, за счет более точных для своего времени данных [99].
В упомянутой книге, впервые изданной в 1903 году, он говорит о ледниковом периоде уже как о доказанном факте, а также о существовании по меньшей мере двух таких оледенений. И хотя сегодня насчитывается до семи таких периодов, однако время конца последнего из них Тилак определяет примерно в 8–10 тыс. лет назад, что близко к мнению современных геологов; при этом время формирования протоарийской общности у этого автора совпадает с последним межледниковьем. Относительно же палеолитического человека вообще Тилак замечает, что его существование «можно удревнить еще более и установить, что он жил и в третичную эру». По поводу природных условий арктического региона, в которых происходило формирование человека, Тилак пишет следующее: «Конец плиоцена и весь период плейстоцена отмечены резкими изменениями климата и началом наступления ледниковья и межледниковья. Но сейчас доказательно установлено, что этому периоду предшествовало произрастание обильных лесов, подобных тем, что в наше время могут встречаться только в зонах тропического или умеренного климата, причем местом их распространения были тогда возвышенности Шпицбергена, где солнце с ноября по март скрыто за горизонтом, а это значит, что в те дни в Арктике превалировал теплый климат».
К третичному периоду относит в своей теории время происхождения человека и Герман Вирт. В своих трудах этот голландский ученый также приводит данные, полученные при исследованиях северных островов, касающиеся останков флоры доледниковой эпохи тех областей земли, которые находятся ныне за полярным кругом. Речь идет, в частности об Исландии, Гренландии, Земле Гриннелла и Шпицбергене. К примеру, отложения последнего, кроме господствующих хвойных пород (сосна, пихта, секвойя) содержат останки лиственных растений (береза, тополь, ольха, дуб, орешник, платан, ива, четыре вида клена и два вида магнолии). На месте пресноводных озер встречаются останки икры лосося, арктической нимфеи (кувшинки), осоки и болотного камыша. Такая растительность, по словам Вирта, требует среднегодового показателя температуры, по крайней мере, не ниже + 8°, в то время как сегодня он может опускаться до 20° ниже нуля. Что касается ископаемой флоры северной Гренландии, то Вирт приводит данные, согласно которым в доледниковый период она соответствовала климатическим условиям, которые мы находим ныне, к примеру, в окрестностях Женевского озера, где среднегодовая температура составляет не менее +10°, и объясняет сильные изменения климата в этой зоне перемещением полюса в Третичном и Четвертичном периодах [121].
Именно изменением положения полюсов по отношению к континентам и океанам, приводящим в свою очередь к изменению направления теплых течений и воздушных масс, многие ученые объясняли возникновение периодов оледенений. Эта теория существует на правах гипотезы и в настоящее время[6][1]. Утверждая это, Вирт ссылается на открытия немецкого метеоролога Альфреда Вегенера, который еще в 1912 году высказал идею о том, что материки перемещаются, а Атлантический океан образовался в результате раскола древнего суперконтинента. В пользу этого утверждения Вегенер привел неопровержимые аргументы: сходство береговой линии и ископаемых останков Африки и Южной Америки, а также следы великих оледенений пермского и каменноугольного периодов, расположенные ныне вблизи экватора. Т.о. этот немецкий ученый формулирует теорию «дрейфа материков» и т.н. «мобилизма» – перемещения крупных литосферных плит, признанную ныне всеми исследователями[7][2]. Но, несмотря на это, вплоть до середины 60-х годов нашего столетия большинство геологов полагало, что очертания материков и океанических бассейнов остаются неизменными.
Итак, по мнению Вегенера, южноамериканский материк отделился от африканского еще в мезозойскую эру, и стал удаляться от него по направлению к западу. Связь же между Европой и Северной Америкой сохранялась до конца Третичного – начала Четвертичного периодов, или даже до более позднего времени.
Согласно представлениям современного варианта гипотезы мобилизма – «новой глобальной тектоники», некогда все материки входили в состав единого пра-материка, получившего название Мегагея, который существовал по крайней мере с начала протерозойской эры[8][1]. К началу палеозоя Мегагея раскололась, в результате чего возникли два протоматерика – южный Гондвана и северный Лавразия[9][2]. Гондвана в течение всего палеозоя оставалась довольно стабильной областью, высоко стоящей над уровнем моря. Лавразия возникла несколько позднее, вероятно, ее образование завершилось в девоне (350–400 млн. лет назад), когда соединились Северо-Американская и Восточно-Европейская платформы. В следующем, каменноугольном периоде (345–280 млн. лет назад), в результате т.н. «тектоно-магматической эпохи герцинской складчатости» на месте Уральского моря появляется горная страна, простирающаяся до Алтая. Это вызвало слияние протоконтинентов в единый массив суши, получивший название Пангея (от греческого pan – «все» и ge, gaia – «земля»). Этот материк существовал на протяжении палеозойской и большей части мезозойской эр. Разделение могло произойти не ранее конца юрского периода, поскольку при исследованиях океанического дна Атлантики с помощью глубоководного бурения в некоторых местах были обнаружены отложения юрского возраста (190–135 млн. лет назад), но нигде не встречены более древние. Итак, к концу юрского – началу мелового периодов мезозойской эры Пангея раскололась на два огромных материка. Северный включал в себя территории, которые позднее станут Европой, Азией и Северной Америкой; а южный объединял в себе наряду с Африкой, Южной Америкой, Антарктидой и Австралией, также и отколовшийся от Африки Протоиндостан. Между этими двумя древними материками простирался мелководный палео-океан Тетис [8]. Что касается Арктической области, то определенно можно сказать о том, что на протяжении большей части мезозойской эры там располагался глубоководный залив Северной Пацифики – Южно-Анюйский океанический бассейн. Во времена юрского периода на месте залива формируется замкнутый морской бассейн, периодически соединяющийся с океаном Тетис через проходящий по территориям будущих Уральских гор Тургайский пролив; а также через мелководные морские пути, связывающие его с Атлантикой и Пацификой (Тихий океан). На западе формируется т.н. Западный внутренний морской путь, проходящий через Северо-Американский континент в район сегодняшнего Мексиканского залива. Согласно данным палеоботаники летние температуры позднего мезозоя в Арктике достигали 18–21°С, а зимние не понижались ниже +4 – +6°С.
В начале третичного времени (палеогене) Арктический бассейн представлял собой бессточное пресноводное озеро-море, временами соединявшееся с южными океанами, мелководным Западно-Сибирским морем и эпиконтинентальным Тургайским проливом; а подводный Ломоносовский хребет был частью нынешнего Сибирского хребта. В это время (около 55 млн. лет назад) в Арктике царил субтропический климат. Среднегодовая температура на полюсе была на 20 градусов выше современной. Тогда еще не существовало известных сегодня горных цепей Пиренеев, Апеннин, Альп, Карпат, Крыма, Кавказа и Гималаев. На их месте все еще простирался теплый мелководный океан, остатки которого известны нам сегодня как Средиземное, Черное, Каспийское моря, а также Персидский залив и моря Малайского архипелага. Европа соединялась с Северной Америкой и была отделена от Азии широким проливом. Максимальных размеров океан достиг около 40 млн. лет назад, после чего с началом бурных процессов горообразования, в середине третичной эры, он распался на несколько самостоятельных бассейнов, а еще позднее на его месте возникла мощная горная цепь, протяженностью тысячи километров, отделившая северную часть Евразии от Южной, что, несомненно, повлияло на ухудшение климатической обстановки. Непосредственным следствием этого стало изменение палеоботанической обстановки. На протяжении последних 25–3 млн. лет назад вечнозеленые леса тропиков и субтропиков сменили листопадные породы. Современное же положение материков в северной Атлантике, разделенных океаном, по мнению ученых, существует только со времени окончания последнего оледенения, т.е. примерно в течение 10–12 тысяч лет (см. рис. 3).

Рис. 3: Реконструкция северной полярной области (слева направо): ранний и средний мезозой (до 190 млн.л.н.), поздний мел (65 млн. лет назад), палеоген (55 млн. лет назад)
Первые, достоверно принадлежащие к роду человек (homo), высшие приматы появились только в конце плиоцена, накануне начала первой эпохи четвертичного периода – т.н. плейстоцена, который характеризуется чередованием холодных ледниковых эпох и теплых периодов межледниковья. Время начала плейстоцена определяется разными авторами в промежутке от 0,7 до 3,5 млн. лет назад. На его протяжении мощные (до 3 км.) ледовые щиты не раз покрывали северные земли Евразии и Америки. Это было временем обитания первых архантропов. Наиболее древние из них – это синантроп из Данау (Юго-Западный Китай), живший до 1,8–1,6 млн. лет назад, и питекантроп с острова Ява (Индонезия), живший около 1,7 млн. лет назад. Наряду с анатомическими признаками, сближающими архантропов с современными людьми, таким например, как прямохождение, они имели архаичные черты в строении черепа, приближающиеся к примитивным приматам – малая высота свода черепа, отсутствие выступающего подбородка и т.д. Несмотря на то, что они изготавливали грубые рубящие орудия, их вряд ли можно назвать людьми. Не имея способности к человеческой речи или каких бы то ни было признаков существования у них представлений о сакральном, их следует считать животными и предками человека только в отношение эволюционного развития морфологии тела, постепенно приближающейся к человеческой.
Во времена, непосредственно предшествовавшие наступлению плейстоцена (эоплейстоцен), Арктический океан оставался довольно ограниченным, замкнутым бассейном. Говоря о вертикальных неотектонических подвижках земной коры на протяжении этой эпохи, Г. И. Лазуков отмечает: «Особенно большими эти изменения были на севере Евразии, где огромные площади имеют шельфовые пространства, занятые ныне Баренцевым, Карским, Восточно-Сибирским и другими арктическими морями. В конце плиоцена они были сушей. Береговая линия располагалась севернее и находилась на 300–400 метров ниже современного уровня океана. Евразия и Северная Америка были огромным единым материком, береговая линия которого проходила на сотни километров севернее современной. Балтийское и Северное моря были сушей. Суша, вероятно, была и на и месте Берингова и Охотского морей» [57].
Подводя итог можно сказать, что в эпоху эоплейстоцена Арктический бассейн представлял собой внутреннее море циркумполярного континента, береговая линия которого проходила на сотни километров к северу по сравнению с ее сегодняшним расположением. На основании изучения проб взятых из массивных отложений хребта Ломоносова, можно говорить о том, что это древнее море на самом деле представляло собой огромное пресноводное озеро.
Уровень Арктического бассейна за время плейстоцена также неоднократно изменялся. «В конце плиоцена – эоплейстоцене на арктическом побережье Евразии почти повсеместно начинается морская трансгрессия, масштаб и время проявления которой имели региональные особенности» – пишет Е. И. Полякова, излагая современные палеогеографические представления [79]. Резюмируя данные приведенные в монографии этого автора, можно сказать, что на востоке Евразии (п-ов Чукотка, север Якутии, Новосибирские острова) размеры трансгрессии были относительно не велики, отложения соответствующие этому повышению уровня мирового океана обнаруживаются не везде, причем распространяются узкой полосой вдоль береговой линии, в приустьевых участках межгорных долин и низменностях. Это позволяет говорить о том, что с конца плиоцена на протяжении всего плейстоцена, уровень моря в этих областях был близок к современному. Что касается Западной Сибири и Восточной Европы, то здесь масштабы трансгрессии были намного большими.
Точное время окончания трансгрессии, определить затруднительно. Можно лишь констатировать, что отложения, обнаруженные на водоразделах в бассейне реки Печеры, содержащие в своем составе вымерший вид микроскопических морских водорослей (диатомей) Thalassiosira nidulus, по времени формирования ограничены верхним временным пределом 280 тыс. лет. В бассейне Северной Двины осадконакопление закончилось несколько позднее, по крайней мере, отложения регрессирующего бассейна, включающие в свой состав Neodenticula seminae, начали формироваться не ранее 300 тыс. лет назад.
Таким образом, это понижение уровня мирового океана охватывает весь нижний и средний плейстоцен. Что касается нижнего плейстоцена, то соответствующие начальным этапам трансгрессии отложения ледниково-морского характера связаны с окским оледенением, во время максимума которого граница ледника проходила через северные районы Украины, юг Белоруссии, нижнее течение Камы.