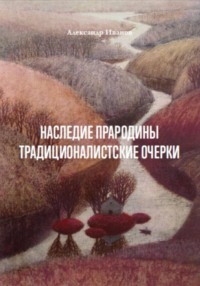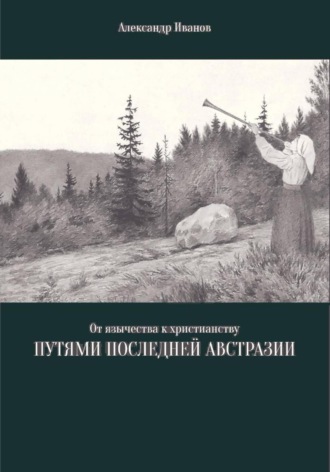
Полная версия
От язычества к христианству. Путями последней Австразии
Перигляциальные области Русской равнины в это время покрывала таежная растительность. Для территории современной Голландии в начальную фазу ледникового периода реконструируются ландшафты субарктического типа с разреженными лесами из березы и ольхи. Ледники были лишь в Скандинавских горах, Альпах и островах Арктического океана. Летняя температура составляла около 10°С.
В период раннего вюрма (70–50 тыс. лет назад) произошло по крайней мере два потепления (интерстадиала). Особенно теплым был второй ранневюрмский интерстадиал, когда в лесах вновь появилась значительная примесь широколиственных пород: липы, ольхи, орешника, в меньшей степени – дуба, вяза. Летние температуры поднялись до 16–17°С. Позднее леса вновь исчезли, а им на смену пришла растительность тундрового типа. Летние температуры опустились до 6°С. К примеру, на западе Франции, по мере похолодания, смешанные широколиственные леса, были вытеснены сухой степью. Что касается Восточной Европы, то в перигляциальных областях западной части бассейна Днепра и среднем течении Вятки во времена максимального оледенения была распространена растительность перигляциальной лесостепи.
47–45 тыс лет назад – время неледникового и относительно теплого средневюрмского (средневалдайского) мегаинтерстадиала, и одновременно время активного заселения Евразии выходцами из Арктики. Исходя из палеоботанических данных, можно заключить, что на месте современных тундр в Восточной Европе, 47–38 тыс. л.н. существовали формации хвойных лесов. Южнее (район Петрозаводска), были распространены сосновые и березовые лесные формации с участием широколиственных пород. Уровень мирового океана после понижения в предшествующую эпоху вновь повысился. В Баренцевом море, осадконакопление происходило в условиях холодного и ледовитого морского бассейна. Отложения каргинского времени залегают на высотах +20–30 м на севере Печорской низменности, +15–20 м на п-ове Ямал и +25–30 м в низовьях Енисея, +5–7 м на Чукотке.
В это время в Центральной Европе появляются изделия, относящиеся к самой ранней ориньякской культуре, которые датируются возрастом около 40 тыс. лет, – это нижний слой пещеры Ишталлошке в Венгрии, в котором были найдены костяные орудия, датированные методом радиоуглеродного анализа 39.700 ± 900 и 44.300 ± 1900. Возрастом около 40 тыс. лет датируются и индустрии нижних слоев пещер Бачо-Киро и Темната в Болгарии. В настоящее время их относят к смешанному типу и считают «предориньякскими», поскольку в них прослеживается ярко выраженный мустьерский компонент, прямо восходящий к местным вариантам мустье. Вполне вероятно, что их творцами являются неардентальцы, по крайней мере, одновременные собственно антропологические находки (Крапина, Винча), представляют собой останки именно поздних палеоантропов. Это позволяет говорить об автохтонном характере мустье, носителями которой были неардентальцы, а также о процессах по крайней мере частичной их ассимиляции или культурного обмена с пришедшими в Европу из «археологического ниоткуда» ориньякцами. Несколько позднее – 36–32 тыс.лет назад появляется ориньякская культура в чистом виде, которая принадлежала уже собственно неоантропу. Первые, принадлежащие к ней предметы, находят в Западной Европе. Именно оттуда эта культура стала известна и получила свое название – по пещере Ориньяк (Франция, департамент Верхняя Гаронна). Однотипные ей слои в Бачо-Киро датируются 31–34 тыс. лет, а в Ишталлошке 33–35 тыс. лет.
В Восточной Европе наиболее древняя, чистая ориньякская культура, датирующаяся временем 35 тыс. лет, – это т.н. спицынская археологическая культура Костенко-Борщевского района (Воронежская область). Наиболее древняя датированная находка человеческих останков в Восточной Европе (третий левый нижний коренной зуб) относится к человеку современного типа и датируется 36,400+1700–1400. Одновременная ей ранняя стрелецкая культура того же района имеет некоторые архаические черты и одновременна перигору Франции (выделена по материалам раскопок в пещере Ла Ферраси). По времени перигор, как и стрелецкая культура, сменяют мустье и одновременны ориньяку. Следует отметить, что носители этих культур – наиболее древние люди современного типа, приближаются по своей морфологии к австралоидной расе. Это подтверждается и исследованиями ДНК по Y-хромосоме, согласно которым человеческая популяция разделяется на две больших ветви: евразийско-австралоидную и негрильско-негроидную. Первая предполагает наличие общих генетических мутаций для монголоидной, европейской (их смеси – америндской) и австралоидной рас; другая – для населения юга Африки. Т.о. древнейшие европеоиды расселялись на территориях, занятых монголоидной и австралоидной расами, частично ассимилируя их и вытесняя в географические тупики: Индонезию, Индостан и Восточную Сибирь (и т.н. «Берингию»).
К стрелецкой культуре принадлежит и более поздняя стоянка Сунгирь под Владимиром (около 25 тыс. лет назад). Все три кроманьонских скелета, найденные там, по единодушному мнению антропологов, имеют хорошо выраженные неарденталоидные признаки, что опять же говорит о фактах метисации.
Т.о. первые достоверно датированные находки кроманьонского человека, совпадают по времени с существованием относительно мягкого климата, а их внезапное появление в Европе уверенно можно связать с повышением уровня мирового океана. Эта миграция опять же коснулась только части изначального человечества, другая осталась на Арктических островах, и только во время регрессии Арктического бассейна, совпавшего с поздневюрмским оледенением, гонимое на этот раз холодами, по осушенным участкам океанического шельфа мигрировало на территории Евразии.
Это новое похолодание началось около 25 тыс. лет назад. Максимального же распространения ледник достиг около 18–20 тыс. лет назад. Под его покровом оказалась значительная часть Великобритании, Ирландии, север Германии, Польши, Белоруссиии. На Русской равнине это оледенение известно как поздневалдайское. Оно развивалось из двух центров: Скандинавского и Новоземельского. Согласно палеоклиматической реконструкции зимние температуры ледниковой эпохи были на 10–15° ниже современных, а летние на 2–3°. Среднегодовые температуры доходили до 0 градусов. На всей территории Русской равнины установилась резко континентальная климатическая обстановка. Безморозный период был на месяц-полтора короче современного. Многолетняя мерзлота распространялась до 49–50° с.ш. В максимальную стадию оледенения на западе Русской равнины (18–23 тыс. л.н.) край ледового покрова достигал 54° с.ш., а на востоке доходил до 66° (24–20 тыс. л.н), таким образом, зона вечной мерзлоты сместилась к югу примерно на 2000 км.
Среди ледников имелся лишь один обширный проход, достигавший покрытого льдами Арктического бассейна в междуречье Енисей-Лена. При этом на территориях, расположенных к западу от современного архипелага Северная Земля, даже в период максимума оледенения имелись огромные, свободные ото льда участки суши.
Уровень моря в эту эпоху, по мнению большинства ученых, опустился на 150–200 метров ниже по сравнению с современным. На изменении уровня моря отразились не только поднятие континентальных плит, но также и переход огромной массы воды в ледяной панцирь, местами достигавший толщины 2 км. По словам Е. И. Поляковой; «шельф мелководных Восточно-Арктических морей был практически повсеместно осушен и береговая линия отступила на сотни километров к северу от ее современных границ. На месте Чукотки, Аляски и прилегающего шельфа Чукотского и Берингова морей образовался обширный массив суши – Берингия, шириной до 2000 км, явившийся континентальным мостом, по которому происходил обмен наземной фауны и флоры между Северной Америкой и Северо-Восточной Азией». Подобные процессы наблюдались на всем Северном побережье Евразии. Обширные пространства шельфа Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых в максимум регрессии представляли собой арктическую лессово-ледовую равнину, которую пересекали палеорусла рек пра-Индигирка, пра-Колыма, пра-Лена и др. В Сибири береговая линия проходила севернее Новосибирских островов. На территории Северной Земли господствовал резко континентальный климат с тундростепными ландшафтами, и крупные млекопитающие (мамонты) без труда проникали на земли будущих островов.
Во время оледенения, около 15 тыс. лет назад, появляется наиболее развитая культура верхнего палеолита – мадленская, названная по пещере Ла-Мадлен (La Madeleine) во Франции. Она существует до окончания плейстоцена, начала голоцена, то есть начиная примерно с 8-ми тыс. лет назад. Наиболее известные ее находки происходят из пещеры Альтамира, в провинции Кантабрия на севере Испании; пещеры Ласко в Дордони (Аквитания, юго-запад Франции), пещеры Монтеспан в Пиренеях (Верхняя Гаррона, Франция). Мадленская культура характеризуется развитым изобразительным искусством: многоцветной наскальной живописью, резьбой по кости, появлением первых линейных символов. Она является завершающим этапом развития палеолита и предшествует появлению носителей культуры мегалитов.
Последними потомками этих народов были коренные жители Канарских островов – высокие светловолосые гуанчи, уничтоженные и/или ассимилированные испанцами только в XV в., которые говорили на собственном, неизвестном ныне языке[11][1]. Гуанчи не знали мореплавания и обработки железа. Жили в пещерах искусственного или естественного происхождения. От них сохранились петроглифы, как в виде рисунков, так и нерасшифрованной линейной письменности.
По всей видимости, потомками позднего кроманьонского населения Европы являются и североамериканские индейцы, в антропологическом типе которых встречаются некоторые европеоидные черты: высокий рост, отсутствие эпикантуса, сильно выступающий нос и др. Европейские первооткрыватели среди североамериканских племен встречали большое количество светловолосых индейцев, ошибочно принимая их за альбиносов. Это говорит о существовании трансатлантического пути миграции человека, по тундровой зоне обширных шельфовых пространств, протянувшихся от Бискайского залива и Ирландии, через Гренландию к Ньюфаундленской банке. Встретив на Американском материке азиатское население, попавшее на континент ранее (около 30 тыс. лет назад), через осушенный Берингов пролив, вместе они создали новую американоидную расу.
Около 10 тыс. лет назад, когда начался интенсивный распад ледникового покрова, уровень мирового океана резко повысился, а в некоторых регионах превосходил современный более чем на 100 метров. Как следствие, огромные пространства суши были затоплены приледниковыми бассейнами. В частности, именно тогда образовались удивительно плоские равнины озерного происхождения на севере Восточной Европы, такие как Приильменская, Псковская, Невская. По мнению Вирта, эти изменения уровня мирового океана, коснувшиеся и Северо-Западного сектора Атлантики, повлекли за собой новую волну миграции, и как следствие появление в Европе т.н. мегалитической культуры.
Основная масса памятников этой культуры представлена менгирами (от бретонского men – «камень» и hir – «длинный»). Это каменные стелы, иногда достигающие значительной высоты. Менгиры могут представлять собой как одиноко стоящие камни, так и распологаться в ряд или циркулярно. В последнем случае они получили название кромлехов (от бретонского crom – «круг» и lech – «камень»). Кромлехи, как например знаменитый Стоунхендж, представляют собой круглый вал (иногда со рвом) с возведенными внутри него менгирами; и т.о. имеют ту же самую форму, которая в упрощенной форме напоминает как поздние славянские капища (например Перынь), так и святилища древних евреев, например «жертвенник Господень», который возвел Илия. Наконец, третью разновидность мегалитических построек представляют дольмены (от бретонского tol – «стол» и men – «камень») – мегалитическое сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой. Внутри часто находят человеческие останки. Они напоминают престол в алтаре православного храма, при освящении которого используются частицы мощей святых как носителей Святого Духа. Погребальная церемония с использованием дольмена (описание которой сохранились в Вендидаде 3, 36 и 6, 44–51, а также в традициях индейцев Северной Америки) заключается в идее временного погребения в земле (или ледяной хижине) до наступления светлого времени года и поледующего его разложения в лучах солнца. Некогда этот обряд символически демонстрировал спуск умершего в лоно матери-земли и последующее его возрождение в лучах небесного света. Позднее эта традиция была упрощена, но смысл ее остался неизменным: через круглое отверстие дольмена (ориентированное на юг – точку восхода солнца в арктических широтах, или на восток – точку восхода солнца в субарктических и более южных широтах), свет по-прежнему проникает внутрь этого мегалитического сооружения.
Современные исследования позволяют выделить несколько характерных черт носителей этой культуры. Во-первых, ее носители занимались земледелием и уже этим существенно отличались от предшествующих им на территории Евразии охотников и собирателей. Во-вторых, антропологически они принадлежали к северной (нордической) подрасе, наиболее широко распространенной сегодня среди шведов (80%). В-третьих, скромные останки их жилищ (в основном свайные постройки и землянки), не идущие ни в какое сравнение с культовыми монументами, говорят о высокой религиозности и развитости священного культа. В-четвертых, судя по наиболее высокой распространенности следов их деятельности в северо-западной Европе, имеющих при этом наиболее древние датировки (около 4500 тыс. до Р. Х.), первая их стоянка на континенте захватывала преимущественно побережья северных морей, что, вне всякого сомнения, свидетельствует о циркумполярном происхождении и знакомстве с мореплаванием. Судя по датировкам основной массы европейских памятников (V–III тыс. до Р. Х.), они могут быть соотнесены с первым путем мигрантов из циркумполярной области, распространявшейся на восток не через Альпы или Босфор с Мраморным морем, а через Гибралтар и Северную Африку, что, по всей видимости, связано с трудностями преодоления горных цепей Альп, Пиренеев, Карпат и Кавказа. Ареал древнейших мегалитических сооружений охватывает побережье Испании и Португалии, северо-запад Франции, западный берег Англии и Ирландию, и далее продолжается на восток в Данию и на южное побережье Швеции, формируя таким образом, – по терминологии Вирта, – «культурный круг народов Северного моря» (Nordseekulturkreis).
Более молодой возраст имеют мегалитические постройки Северной Африки, Корсики и Палестины (около II тыс. до Р. Х.). Первоначально их носители – это народы т.н. западной подрасы: иберийцы и известные из египетских источников tmh (темеху?), населявшие земли к западу от Египта, известные со II тыс. до Р. Х., которые отличались от остальных светлой кожей, каштановым цветом волос и бороды, обычаем украшения волос страусинными перьями, а также татуировкой тела. Эти «белые ливийцы» смешавшись с коренным населением Африки, Ближнего востока и Аравии дали начало семитскому народу амуру (букв. «люди запада») и берберам (см. рис. 6). А на позднем этапе – это носители крито-минойской и микенской культуры: этруски и представители собственно индоевропейской языковой семьи, которые известны нам как пеласги, и родственные им народы Азии: карийцы, пра-лидийцы, троянцы, палустья (филистимляне), и возможно тохары[12][1].

Рис. 6: Зарисовка из древнеегипетской гробницы, где редставлены 4 основных антропологических типа известных египтянам. Слева направо: темеху, нехьесу (негроиды), техену или а’му (семиты) и собственно египтяне
Сложнее, в силу малой изученности вопроса, обстоят дела с восточным путем миграции послепотопного человечества. О том, что он, несомненно, существовал, говорит наличие досемитской цивилизации Шумера, тесно связанной с алтайским, протоугротюрским этническим элементом. Месопотамия – область, где столкнулись западная и восточная ветви, что повлекло за собой начало интенсивного культурного обмена, известного из библейской истории как «Вавилонское столпотворение». Скорее всего, в этой восточной волне переселенцев следует видеть потомков ориньякского и кроманьонского населения Евразии, почти полностью вытесненного из Европы (исключая труднодоступные области Альп, Пиренеев и северо-восточной Скандинавии) волной «северо-атлантических» переселенцев – носителей мегалитической культуры.
На протяжении постледникового периода (голоцена), который продолжается до сих пор, климат также неоднократно изменялся, по оценкам современных ученых, амплитуда среднегодовых температурных колебаний на протяжении этой эпохи составляла не менее 8–9 градусов. При анализе палеоботанических данных в пределах постледниковья обнаруживаются два крупных отрезка. Первый, длиной 10 500–4 500 отличается повышением температур, второй характеризуется их понижением. К примеру, климатический оптимум на Северной Земле наступил 3–4 тыс. лет назад. Однако и 700–450 лет назад на этом острове, судя по заметному увеличению толщи озерных отложений, на архипелаге было относительно тепло – средняя июльская температура воздуха над островной сушей возрастала до 3–4°С. В это же время, судя по материалам скандинавских саг, и Гренландия была вполне пригодна для обитания, ее берега покрывали леса, а озера изобиловали рыбой[13][1]. Во время упомянутого температурного оптимума голоцена субарктические леса сместились примерно на 300 км. севернее их нынешней границы. Бесспорным является факт, что в те времена на Крайнем севере Европы произрастали не только хвойные, но и широколиственные леса, и только в 3-м тысячелетии до Р. Х. тундра вновь сменила леса в субарктических регионах [9]. Что касается уровня мирового океана, следует отметить, что по прошествии «потопа», вызванного таянием ледникового покрова, во время климатического оптимума он был еще значительно ниже современного.
По мере окончания оптимума наступило последнее похолодание, с которым связана и последняя волна миграции человека с изначальной прародины – циркумполярного континента. Это народы индоевропейской общности, которые были отчасти вытеснены в Европу последним оледенением, а затем, идя вслед за отступающим ледником по богато оводненным лугам и пастбищам, вновь вернулись в приарктические области, которые и населяли вплоть до III–II тыс. до Р. Х. То есть, до тех пор, пока гонимые новым ухудшением климатических условий и дальнейшим повышением уровня мирового океана не двинулись к югу.
Это движение с одной стороны проходило через Верхне-Рейнскую область и район Северного моря, где вплоть до начала нашей эры на месте современной отмели Доггера и прилегающего шельфа, существовал архипелаг островов, а несколько ранее равнина покрытая многочисленными озерами; а с другой – по территории Русского Севера.
Что касается миграции восточной группы, то она особенно четко прослеживается для предков индоиранской языковой группы по наличию специфических для нее гидронимов, распространяющихся в направлении: Русский Север – Причерноморье – Иран – Индия (см. рис. 7). Мы приведем здесь лишь некоторые названия рек, прослеживаемые на всем пути продвижения арьев. Таковы реки Кува в Кирилловском уезде, Кубала в Вельском уезде – Кубань в Причерноморье – Кабул в Афганистане – Кубха в Индии; Индега и Синдош на Русском Севере – Синдика-Тамань Причерноморья – реки Синд, Инд в Индии; река Варз в Архангельской губернии и река Варсак в Пакистане; Дан в Вологодской губернии – Дон, Днепр, Дунай в Причерноморье – Дану (река в Ригведе) и т.д. Причем наименования некоторых рек Русского Севера и Индии буквально совпадают, например Алака, Ганга, Кайласа, Лагман, Пурная, Шона [27]. Два основных пути миграции можно соотнести с данными лингвистики, согласно которым, индоевропейский языковой континуум первоначально разделился на две большие группы: носителей языков «кентум» и «сатем». Эти понятия образованы от двух прото-корней, лежащих в основе слова, обозначающего числительное «сто» в разных индоевропейских языках. Первая языковая ветвь соответствует западному, а вторая – восточному пути миграции индоевропейцев. К языкам группы «кентум» относят греческий, германские, италийские, кельтские и тохарские языки. К восточной группе, кроме индо-иранцев, хетто-лувийцев, балтов принадлежали также и праславяне. Согласно ультрасовременным исследованиям популяционной генетики с языковой группой «сатем» можно довольно уверенно связать Y-хромосомную галлогруппу R1а, которая имеет два полюса максимальной концентрации: в Европе у славянских и балтийских народов (у лужитских сербов до 63%, у русских 51%, у латышей 39%) и в Азии у высших каст индии (45% и выше). С языками «кентум» соотносится галлогруппа R1b, с максимальной концентрацией на побережье Бискайского залива (в Уэльсе, Ирландии и северной Испании – до 90%). Причем ареал максимального распространения R1b практически полностью совпадает с ареалом западноевропейских мегалитических памятников. Что касается восточной группы памятников, то это сейды и лабиринты Русского севера, которые встречаются на всем побережье Белого моря, вплоть до Прибалтики (Карелия, Кольский полуостров, Эстония, Швеция), и обычно связываются с финно-угорской народностью лапландцев (саамов); но у них также достаточно высокое распространение имеет галлогруппа R1а – до 22%. Эти данные генетики в сопоставлении с ареалом распространения памятников мегалитической культуры (которые, в отличии от западноевропейских: во-первых, располагаются дальше к северу, а во-вторых довольно узкой полосой), позволяют сделать вывод о том, что ареал первоначального расселения носителей языков «сатем» находился на территориях практически полностью покрытых ныне океаническими водами, а также о быстром заселении Русского севера финскими племенами после миграции индоевропейцев к югу. Этому способствовали особенности палеогеографии региона, замкнутого с одной стороны Скандинавским, а с другой Уральским ледниковыми щитами.

Рис. 7: Карта приледниковых рек (по А. Сейбутису). Предполагаемая локализация ригведского гидрографического комплекса Синдху: 1 – ледниковые покровы померанской (вепсовской) стадии; 2 – приледниковые водоемы (по Д. Д. Квасову); 3 – предполагаемый поток Синдху. Месторасположение современных топонимов: 4 – Индига; 5 – Инта; 6 – Индус; 7 – Кубена; 8 – Кыма
На основании сравнения индоевропейских языков и реконструкции праиндоевропейского языка можно утверждать, что предкам всех индоевропейских народов еще в период их общности были известны бук, береза, дуб и сосна, а также и лосось (немецкое lach, литовкое lasisa, тохарское laks в значении «рыба»).
Как известно, последний, не водится ни в Средиземном ни в Черном морях, а поэтому единственное море которое может обсуждаться в данном контексте – это Балтийское, входящее, как известно в акваторию Северного Ледовитого океана.
Следует обратить внимание и на совпадения в обозначении таких понятий, как «мед» (латинское mel, хеттское melit, готское melid, древнеирландское mil, литовское medus); «корова» или «бык, буйвол» (латинское bos, умбрское bue, древнеирландское bo, английское cow, латышское guovs, старославянское gov-e-do, тохарское ko, греческое bous, армянское kov, авестийское gaus и ведийское gaus), а также наименований злаковых культур, таких, как пшеница, ячмень, просо и ряда диких животных, в частности медведя, волка, кабана и выдры. Знаменательно и то, что в праиндоевропейском языке имелось общее обозначение для «снега» (английское snow, немецкое schnee, латинское nix, литовское sniegas) и «зимы» (латинское hiems, литовское ziema ведическое himas), при отсутствии общих обозначений для «лета» и «осени». Это позволяет некоторым современным исследователям помещать прародину индоевропейцев в Скандинавии, Северной Германии или в Восточной Европпе, одновременно отвергая теорию азиатской прародины, популярную в XIX веке. Действительно, среди приведенных выше наименований растений и животных, известных индоевропейцам времени их общности, мы не встречаем ни средиземноморских, ни тем более тропических видов. Но как мы показали, умеренный климат был характерен не только для Европы, но и для Арктического региона.
В современной лингвистике существует принцип «консерватизма», согласно которому ядро индоевропейской общности должно находиться там, где мы встречаем наиболее архаичные лингвистические формы. Исследователи, следующие данному подходу, указывают на Прибалтику и прилегающие районы, учитывая наибольшую близость к праиндоевропейскому балтских и славянских языков. Учитывая данные теории арктического происхождения, мы должны сделать небольшую поправку и переместить этот центр в акваторию Норвежского, Баренцева и Белого морей. Ныне скованный вечной мерзлотой, во время климатического оптимума голоцена (современного постледникового периода), а также в предшествующие эпохи интерстадиалов и последнего межледниковья, этот регион представлял собой огромные плодородные равнины, возвышенности и горные цепи которого, известны нам сегодня в качестве Новой Земли, Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа и пр. Это хорошо согласуется с теми теориями, которые в определении прародины учитывают контакты между языковыми семьями; утверждая, что центр расхождения языков должен находиться в непосредственной близости от ареала распространения той языковой семьи, с которой обнаруживается наибольшее количество схождений. Такую близость демонстрируют индоиранская и финноугорская языковые группы. В частности, авторы приводят такие заимствования из индо-ираского в финно-угорский, как обозначения терминов: кабан, раб, свинья, пчела, мед, семь и т.д. Но ведь именно в регионах Русского севера произошел первый контакт между индо-иранцами и финскими племенами [64]. Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что праиндоевропейцы не являясь автохтонным населением Европы, пришли на континент относительно поздно, вытесняя или ассимилируя при этом ее древних обитателей и привнося единую праиндоевропейскую культуру и свою Священную Традицию. И, именно ее свидетельства не позволяют усомниться в северном, полярном происхождении наших предков.