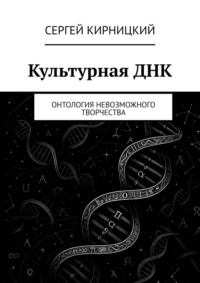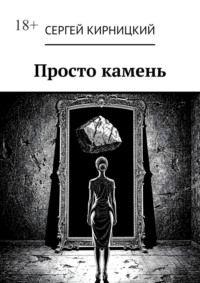Полная версия
Симулякр с видом на море. Неудобная правда о туризме
Конец эпохи купальных машин наступил внезапно. В 1901 году муниципалитет Бексхилла-он-Си первым разрешил смешанное купание – мужчины и женщины на одном пляже, хотя всё ещё в разное время. К 1920-м годам купальные машины использовались только эксцентричными старушками и ностальгирующими аристократами. Последняя действующая машина в Британии сгорела в 1926 году в Кройдоне – местные жители устроили из этого события праздник с фейерверком.
Но исчезли ли купальные машины на самом деле? Или они просто трансформировались? Современный пляжный клуб с его системой ограждений, VIP-зон, приватных кабин – разве это не та же купальная машина, только стационарная и с кондиционером? Браслеты all-inclusive, отделяющие имеющих право от не имеющих, – разве это не те же сигнальные флажки королевы Виктории? Мы всё ещё строим сложные механизмы, чтобы отделить себя от моря и друг от друга, просто называем их иначе.
Experientia segregata (сегрегированный опыт) – вот истинное наследие купальных машин. Мы научились входить в воду, не касаясь её, видеть море, не встречаясь с ним, быть на пляже в изоляции от пляжа. Купальные машины исчезли, но они победили – море осталось там же, где было, а мы построили между собой и им всё более изощрённые барьеры.
1.3. География статуса: картография тщеславия
К началу XIX века морские курорты Британии выстроились в жёсткую иерархию, где каждая социальная страта имела своё предписанное место под солнцем. Эта география не была случайной – она конструировалась с той же тщательностью, с какой Хаусман перепланировал Париж или Нэш перестроил Лондон. Только если столичные планировщики создавали пространство для жизни, то курортные архитекторы проектировали декорации для спектакля под названием «отдых».
Бат возглавлял пирамиду престижа. Строго говоря, это был не морской, а термальный курорт, но именно эта деталь делала его вершиной иерархии. Море было слишком демократично – оно принадлежало всем. Горячие источники Бата, напротив, были ограниченным ресурсом, который можно было контролировать, дозировать, продавать по астрономическим ценам. Если в Брайтоне лечились от выдуманной железистой болезни, то в Бате – от реальной подагры, профессиональной болезни аристократии, наевшей её себе веками изысканной кухни.
Ричард «Бо» Нэш, некоронованный король Бата с 1704 по 1761 год, превратил захолустный городок в столицу английского снобизма. Его гениальность заключалась в понимании простой истины: богатые люди платят не за воду, а за общество других богатых людей. Он ввёл строжайший дресс-код (никаких сапог в помещении!), расписание дня (подъём в восемь, воды в девять, концерт в одиннадцать), правила поведения (никаких дуэлей до полудня!). Бат стал местом, где можно было встретить всех, кто имел значение, и никого, кто его не имел.
Архитектура Бата, созданная отцом и сыном Вудами, материализовала социальную иерархию в камне. Royal Crescent – тридцать домов, выстроенных полумесяцем, с фасадом длиной в 150 метров – был апофеозом георгианской градостроительной мании. Жить в центре полумесяца было престижнее, чем по краям. Второй этаж ценился выше первого, но ниже третьего. Северная сторона считалась предпочтительнее южной, хотя солнце светило наоборот. Абсурд? Разумеется. Но люди платили тысячи фунтов за правильный адрес в правильном месте правильного полумесяца.
Брайтон занимал вторую ступень иерархии – респектабельный, но не эксклюзивный. Его возвышение началось в 1783 году, когда принц Уэльский, будущий Георг IV, впервые посетил город по совету врачей. Принц, страдавший от последствий разгульной жизни (подагра в двадцать один год – даже для аристократа это было достижение), нашёл в Брайтоне идеальное сочетание медицинской респектабельности и моральной расслабленности. Подальше от строгого взора отца-короля, поближе к морю и развлечениям.
Королевский павильон, который принц начал строить в 1787 году и перестраивал до самой смерти в 1830-м, стал материальным воплощением курортного абсурда. Индийские купола на английском берегу, китайские интерьеры в георгианском городе, минареты, драконы, пальмы из чугуна – это был архитектурный морфий, призванный убедить посетителя, что он находится где угодно, только не в промозглой Англии. Павильон стоил 500,000 фунтов – сумму, достаточную для постройки флота или содержания армии. Но разве не в этом суть курорта – тратить невероятные ресурсы на создание иллюзии, что ты где-то в другом месте?
Скарборо, Маргейт, Уэймут, Рамсгейт – курорты среднего класса, где коммерсанты играли в аристократов, а аристократы, которым не хватило денег на Бат, притворялись, что им нравится демократическая атмосфера. Каждый имел свою специализацию: Скарборо славился целебными источниками (содержание минералов: ноль целых, ноль десятых), Маргейт – близостью к Лондону (можно съездить на выходные), Рамсгейт – королевской гаванью (король никогда там не бывал, но название обязывало).
Блэкпул представлял собой особый феномен – первый чисто пролетарский курорт. С открытием железной дороги из Манчестера в 1846 году город наводнили рабочие текстильных фабрик. Местные предприниматели быстро поняли: эта публика не нуждается в купальных машинах и дипперах. Им нужны пиво, танцы и возможность забыть на день о фабричных станках. Блэкпул стал анти-Батом: вместо правил – анархия, вместо термальных вод – эль, вместо концертов Генделя – мюзик-холлы с канканом.
Но самым показательным была практика «сезона». Каждый курорт имел своё точно определённое время, когда там следовало находиться. Бат – октябрь-март (летом аристократия уезжала в поместья). Брайтон – сентябрь-январь (летом слишком много простолюдинов). Скарборо – июль-август (для тех, кто не мог позволить себе континентальные курорты). Каждый должен был знать своё время и своё место. Появиться в Бате в августе или в Скарборо в декабре означало социальное самоубийство.
Курортная литература эпохи создавала и укрепляла эти различия. Джейн Остин, проведшая годы в Бате, превратила курортную жизнь в литературный жанр. Её незаконченный роман «Сандитон» – злая сатира на курортные амбиции: захолустная деревушка пытается стать модным курортом, строит эспланаду в никуда, террасу с видом на грязь, библиотеку без книг. Каждый персонаж одержим идеей превращения ничего во что-то через простое называние: если назвать лужу «целебным источником», она им станет.
Путеводители эпохи читаются как инструкции по социальному альпинизму. «Где останавливаться в Брайтоне: Bedford Hotel – для джентльменов, Old Ship – для коммерсантов, приватные квартиры миссис Браун – для тех, кому важна экономия». «Прогулки в Бате: Королевский полумесяц – утром, только для резидентов; Палтни-бридж – днём, для всех порядочных людей; нижний город – никогда, если вы цените репутацию». География курорта превращалась в минное поле социальных условностей.
К середине XIX века система достигла такой сложности, что появились специальные консультанты по курортному этикету. За гинею они составляли маршрут сезона: какой курорт, в какое время, в каком отеле, с какими знакомствами. Мистер Эдмунд Йейтс, автор «Путеводителя по фешенебельной жизни» (1856), предлагал пятнадцать различных курортных маршрутов – от «Экономного джентльмена» (50 фунтов на сезон) до «Блистательного вояжа» (500 фунтов и выше). Каждый включал точные указания: с кем знакомиться, кого избегать, какие события посещать обязательно, какие – ни в коем случае.
Locus distinctionis (место различения) – вот чем были курорты XIX века. Они существовали не для отдыха, а для демонстрации способности отдыхать правильно, в правильном месте, в правильное время, с правильными людьми. Море было одинаковым везде, но смотреть на него из Бата и из Блэкпула означало принадлежать к разным биологическим видам.
Эта система рухнула с Первой мировой войной, когда выяснилось, что аристократы умирают в окопах так же легко, как пролетарии. Но создала ли демократизация туризма равенство? Или просто умножила количество иерархий? Сегодня у нас есть пятизвёздочные отели и хостелы, первый класс и лоукостеры, VIP-пляжи и общественные. Мы всё ещё покупаем географию статуса, просто теперь она глобальна. Мальдивы – новый Бат, Ибица – новый Брайтон, Паттайя – новый Блэкпул. Названия изменились, логика осталась.
В письме 1797 года некая леди Холланд жаловалась подруге: «Провела ужасное лето в Уэймуте. Встречала только тех, кого можно встретить в Уэймуте». Она не понимала, что сформулировала универсальный закон туризма: мы едем в места, чтобы встретить там себе подобных и убедиться, что мы – не те другие, которые едут в другие места. География статуса победила географию физическую. Мы путешествуем не в пространстве, а в социальных координатах.
Современная индустрия научилась монетизировать эти различия с хирургической точностью. Тот же пляж, то же море, но лежак в пляжном клубе стоит пятьдесят евро, а в десяти метрах на общественном пляже – бесплатно. За что платят эти пятьдесят евро? За десять метров? Нет – за право находиться среди тех, кто может заплатить пятьдесят евро за то, что в десяти метрах бесплатно. Доктор Рассел продавал морскую воду как лекарство. Мы продвинулись дальше – мы продаём расстояние от других людей как терапию.
Так началась великая трансформация. За полтора столетия – от доктора Рассела до королевы Виктории – море превратилось из враждебной стихии в товар, купание – из гигиенической процедуры в социальный ритуал, берег – из границы мира в театральную сцену. Была создана индустрия, которая производила не продукт и не услугу, а иллюзию опыта. Иллюзию, за которую люди готовы были платить больше, чем за реальность.
Следующий шаг сделал Томас Кук. Если XVIII век изобрёл необходимость отдыха, то XIX век индустриализовал её производство. Но это уже следующая глава нашей истории – о том, как баптист-трезвенник создал глобальную машину эскапизма, как железная дорога убила пространство, а путеводитель Baedeker – спонтанность. История о том, как путешествие перестало быть путешествием и стало перемещением.
Мы изобрели болезнь, чтобы продавать лекарство. Усложнили простое до полной бессмысленности. Создали географию, которая существует только в головах. И назвали всё это прогрессом.
Homo touristicus (человек туристический) не эволюционировал – он был сконструирован. И продолжает покупать то, что ему продали как необходимость: иллюзию, что где-то там, у моря, он станет свободным. Хотя единственное, от чего он бежит, – это от себя. И единственное место, куда он приезжает, – это туда, откуда пытался уехать.
Глава 2. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ МЕЧТЫ
Эпиграф: «Томас Кук продавал не туры. Он продавал иллюзию, что перемещение – это опыт.»
2.1. Томас Кук: от трезвости к интоксикации путешествиями
Существует особая ирония в том, что современная индустрия эскапизма была создана человеком, посвятившим жизнь борьбе с пьянством. Томас Кук, баптистский проповедник из Дербишира, начинал как столяр-краснодеревщик, изготавливающий мебель для тех, кто мог себе позволить сидеть красиво. К тридцати годам он обнаружил своё истинное призвание – спасать души рабочих от демона алкоголя. Но история, обладающая извращённым чувством юмора, превратила борца за трезвость в архитектора глобальной системы бегства от реальности. Кук не продавал путешествия – он продавал забвение, упакованное в респектабельность железнодорожного билета.
Пятого июля 1841 года произошло событие, которое историки туризма называют началом новой эры, хотя правильнее было бы назвать его началом конца подлинного путешествия. Кук организовал железнодорожную экскурсию для пятисот семидесяти членов общества трезвости из Лестера в Лафборо – одиннадцать миль за один шиллинг. Расстояние, которое пешком можно преодолеть за три часа, участники проехали на поезде, заплатив за привилегию не ходить. В программе значились духовные песнопения, чай и проповедь о вреде алкоголя. Но между строк протокола того собрания читается нечто более существенное: рождение идеи, что опыт можно купить оптом и распределить порционно.
Гениальность Кука заключалась не в том, что он удешевил путешествия – железнодорожные компании и без него снижали цены в борьбе за пассажира. Его прозрение состояло в понимании фундаментальной человеческой слабости: люди хотят пережить приключение, но боятся приключений. Они мечтают об открытиях, но страшатся неизвестности. Они жаждут свободы, но паникуют от необходимости выбирать. Кук предложил идеальное решение – путешествие без риска, приключение без опасности, свободу без ответственности. Он изобрёл то, что сам называл «системой проводимых удовольствий» (conducted pleasures), хотя в его устах это звучало как достижение, а не как приговор человеческой самостоятельности.
К 1845 году Кук уже водил экскурсии в Ливерпуль, предлагая рабочим Мидлендса возможность увидеть море – многие из них действительно видели его впервые. Но посмотрите внимательнее на структуру этих туров: ранний подъём, сбор на вокзале, поезд, организованный обед, осмотр достопримечательностей группой, поезд обратно, возвращение к полуночи. Это не путешествие – это конвейер впечатлений, где каждый момент распланирован, каждая остановка рассчитана, каждое впечатление дозировано. Участники этих экскурсий не путешествовали – они транспортировались от одной точки программы к другой, как письма на почтовой станции.
Но подлинный триумф Кука случился в 1851 году, во время Великой выставки в Гайд-парке. Он организовал поездки для ста шестидесяти пяти тысяч человек – население среднего города того времени. Рабочие со всей Англии съезжались в Лондон посмотреть на Хрустальный дворец – само по себе величайшую иллюзию эпохи, здание из стекла и железа, построенное, чтобы продемонстрировать превосходство империи через выставку вещей. Кук продавал билеты на спектакль прогресса, где зрители платили за право восхищаться собственным порабощением машиной.
Экономическая модель, созданная Куком, была революционна в своей простоте и ужасающа в своих последствиях. Он покупал билеты оптом, договаривался о групповых скидках в отелях, нанимал гидов на фиксированную ставку, а затем продавал всё это как «пакет» – слово, которое само по себе раскрывает суть трансформации: путешествие стало товаром, упакованным для удобства потребления. Маржа составляла около пятнадцати процентов, но при объёмах в тысячи туристов это превращалось в состояние. К 1865 году компания Thomas Cook & Son уже имела офисы в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.
Рассмотрим внимательнее сам термин «пакетный тур» – package tour, вошедший в обиход именно благодаря Куку. Пакет предполагает, что содержимое скрыто от глаз, что покупатель доверяет продавцу в вопросе того, что внутри. Это акт веры, но не в божественное провидение, а в коммерческую честность туроператора. Путешественник больше не планирует маршрут, не выбирает остановки, не решает, где есть и что смотреть. Всё это решено за него людьми, чья единственная цель – максимизация прибыли при минимизации затрат. Свобода путешествия обменивается на удобство несвободы.
В 1869 году Кук организовал первый тур в Святую Землю – сто восемьдесят дней, три тысячи фунтов с человека. Викторианские буржуа ехали в Палестину не искать Бога, а фотографироваться на фоне мест, где Его искали другие. Это было паломничество без веры, духовное путешествие без духа, религиозный опыт без религии. Местные арабы, нанятые Куком, изображали библейских персонажей для развлечения туристов – Авраамов и Моисеев по тарифу. Святость стала сценографией, вера – фоном для дагерротипа.
К 1872 году Кук отправил первых туристов вокруг света – двести двадцать два дня за двести гиней. Жюль Верн написал «Вокруг света за восемьдесят дней» как фантастику; Кук превратил это в банальность, доступную любому клерку, накопившему достаточно. Но что именно видели эти первые кругосветные туристы? Серию отелей, вокзалов, достопримечательностей, ресторанов – инфраструктуру, созданную специально для них, изолирующую их от той самой реальности, ради встречи с которой они якобы путешествовали.
Особенно показателен египетский бизнес Кука. К 1880-м годам его компания фактически монополизировала туризм в Египте. Cook & Son владели пароходами на Ниле, отелями в Каире и Луксоре, даже почтовой службой для туристов. Они создали параллельный Египет – страну, существующую исключительно для обслуживания западных путешественников. Древние храмы стали декорациями, Нил – аттракционом, местное население – массовкой в спектакле экзотики. Арабы, работавшие на Кука, учили специальный словарь из двадцати английских слов – ровно столько, сколько нужно, чтобы продать сувенир или указать дорогу к уборной.
Вершиной абсурда стала система ваучеров Кука. Турист покупал книжечку купонов, которые можно было обменять на услуги по всему маршруту – проживание, питание, экскурсии. Деньги больше не нужны, местная валюта не требуется, торговаться не придётся. Путешественник движется по миру, отрывая купончики, как будто весь земной шар – это один большой супермаркет, где всё уже оценено и предоплачено. Контакт с местной экономикой сведён к нулю, взаимодействие с культурой – к минимуму, возможность неожиданности – исключена.
Парадоксальным образом, чем успешнее становился бизнес Кука, тем яростнее его критиковали те самые классы, которые раньше пользовались его услугами. Викторианские снобы изобрели термин «кукисты» (Cookites) как оскорбление, обозначающее вульгарных туристов, путешествующих толпой. Журнал Blackwood’s Magazine писал в 1865 году: «Мистер Кук превратил путешествие в вульгарность, доступную любому лавочнику. Континент наводнён ордами британцев, которые не говорят ни на одном языке, кроме родного, и измеряют все чудеса мира в фунтах, шиллингах и пенсах». Критика была справедливой, но бессмысленной – джинн массового туризма уже вырвался из бутылки.
Сам Кук отвечал критикам с достоинством человека, уверенного в своей миссии: «Я открываю мир для миллионов, которые иначе никогда не увидели бы его чудес». Он искренне верил, что делает благое дело, демократизируя путешествия. Он не понимал – или не хотел понимать – что открывает не мир, а его симуляцию, что показывает не чудеса, а их товарную версию. Кук умер в 1892 году, оставив империю с офисами на всех континентах и миллионными оборотами. На его надгробии выбита эпитафия: «Он открыл мир для всех». Точнее было бы: «Он закрыл подлинный мир, открыв его копию».
Наследие Кука живёт в каждом современном туристическом пакете, в каждом круизе «всё включено», в каждой организованной экскурсии. Мы настолько привыкли к его модели, что не можем представить путешествие иначе. Booking.com, Airbnb, TripAdvisor – это всё потомки системы Кука, усовершенствованные технологией, но основанные на той же предпосылке: путешественник не способен или не хочет организовать собственный опыт. Алгоритмы заменили агентов, смартфоны – ваучеры, но суть осталась прежней: мы покупаем иллюзию приключения, тщательно очищенную от всего, что делает приключение приключением.
2.2. Железная дорога: уничтожение пространства временем
До появления железной дороги путешествие было трансформацией через усилие. Каждая миля давалась телу через пот и боль, каждая остановка запоминалась усталостью ног или задницы, в зависимости от способа передвижения. Пешком из Лондона в Эдинбург – это две недели постепенного изменения ландшафта, диалекта, погоды, лиц. Каретой – это пять дней тряски, остановок на постоялых дворах, разговоров с попутчиками, поломок колеса, грабителей на дороге. Путешествие было процессом, в котором пространство проживалось, а не преодолевалось. Железная дорога уничтожила эту процессуальность одним ударом поршня.
Первый пассажирский поезд между Ливерпулем и Манчестером, запущенный пятнадцатого сентября 1830 года, преодолел тридцать одну милю за час и семнадцать минут. Расстояние, которое дилижанс покрывал за четыре часа, поезд пролетел быстрее, чем требуется для обстоятельного обеда. Но скорость была лишь поверхностным эффектом более фундаментального изменения: пространство перестало быть субстанцией, которую нужно преодолевать, и стало пустотой между точками отправления и прибытия. География схлопнулась в расписание.
Генрих Гейне, путешествуя на открытии железнодорожной линии Париж-Руан в 1843 году, записал пророческие слова: «Пространство убито железной дорогой, и остаётся только время». Он понял то, что большинство его современников ещё не осознавали: поезд не просто ускорил перемещение, он изменил саму природу пространственного опыта. Города больше не находились на расстоянии миль друг от друга – они находились на расстоянии часов. Карта перестала быть географической и стала темпоральной.
Железнодорожные компании быстро осознали эту трансформацию и начали её эксплуатировать. Great Western Railway рекламировала поездки не расстоянием, а временем: «Бат – всего два часа от Лондона», «Бристоль – утро в столице, вечер у моря». Пространство исчезло из уравнения, остались только точки и время между ними. Но что происходило с самим временем в этом промежутке?
Железнодорожное время оказалось особой субстанцией, отличной и от рабочего, и от досугового времени. Это было время ожидания, подвешенное состояние между началом и концом, лишённое содержания. Пассажиры изобрели способы заполнить эту пустоту: чтение газет (железнодорожные киоски W.H. Smith появились именно для этого), разговоры с попутчиками (которые быстро стали восприниматься как нарушение этикета), созерцание пейзажа (который на скорости превращался в размытые полосы). Железная дорога создала новый вид скуки – скуку движения без усилия, перемещения без участия.
Вокзалы стали храмами этой новой темпоральности. Сент-Панкрас в Лондоне, Гар-дю-Нор в Париже, Гранд-Сентрал в Нью-Йорке – это не просто здания, это машины по производству особого состояния сознания: транзитного. Марк Оже назовёт их позже «не-местами» – пространствами, лишёнными идентичности, истории, отношений. Вокзал существует только как точка перехода, место, где человек перестаёт быть тем, кто он есть в точке А, но ещё не становится тем, кем будет в точке Б. Лиминальное пространство, где личность подвешена, а идентичность размыта.
Архитектура вокзалов усиливала это ощущение: огромные своды из стекла и железа создавали пространство одновременно грандиозное и пустое, впечатляющее и безличное. Часы – обязательный элемент любого вокзала – напоминали, что здесь правит время, а не место. Расписание поездов стало новой священной книгой, где каждая минута расписана, каждое опоздание – катастрофа, каждое прибытие – ритуал.
Унификация времени стала неизбежным следствием железнодорожного движения. До 1840 года каждый британский город жил по своему местному времени, определяемому положением солнца. Бристоль отставал от Лондона на десять минут, Плимут – на шестнадцать. Это не создавало проблем, пока скорость перемещения позволяла времени синхронизироваться с пространством. Но поезд, способный за час преодолеть расстояние, создающее десятиминутную разницу во времени, превратил эту поэтическую вольность в логистический кошмар. В 1847 году железнодорожные компании ввели «железнодорожное время» – единое время по Гринвичу для всех станций. К 1855 году девяносто восемь процентов британских городов перешли на это время. Солнце больше не определяло полдень – его определяло расписание поездов.
Феноменология восприятия из окна поезда заслуживает отдельного рассмотрения. Традиционное путешествие позволяло глазу фокусироваться на деталях: лицо крестьянина в поле, архитектурная деталь церкви, игра света на воде реки. Железная дорога уничтожила передний план – на скорости он превращался в неразличимое мельтешение. Оставался только задний план – панорама, лишённая деталей. Пассажир поезда видел не пейзаж, а его кинематографическую версию, проносящуюся за окном как примитивное кино.
Вольфганг Шивельбуш в своей работе «Железнодорожное путешествие» называет это «панорамическим восприятием» – новым способом видения, порождённым скоростью. Взгляд больше не мог остановиться на отдельном объекте, он скользил по поверхности мира, схватывая общее и теряя частное. Это было рождение туристического взгляда – поверхностного, скользящего, неспособного к глубокому проникновению. Мир за окном поезда стал спектаклем, разворачивающимся для пассивного зрителя.
Железная дорога также трансформировала социальную географию путешествия. Система классов вагонов – первый, второй, третий – создала новую форму сегрегации, основанную не на происхождении, а на покупательной способности. В вагоне первого класса банкир мог сидеть рядом с разбогатевшим лавочником, в третьем – обедневший аристократ рядом с рабочим. Но эта кажущаяся демократизация была иллюзией: классы были жёстко разделены, и переход между ними во время путешествия был невозможен. Поезд стал моделью общества – все движутся в одном направлении с одной скоростью, но в радикально разных условиях.