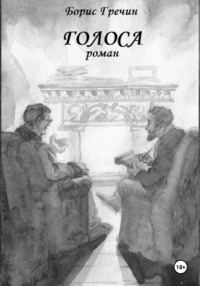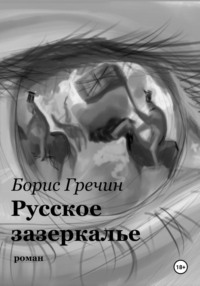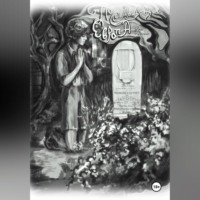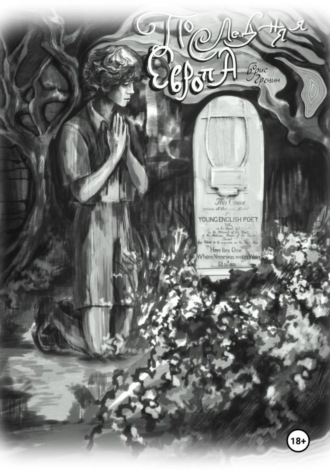
Полная версия
Последняя Европа
– Оттого что «ниточку перерезали – уши отвалились»… Как я сама не догадалась? И что, ты можешь его расшифровать?
– Откуда? Я ведь не шифровальщик…
– А любой мальчишка из моей бывшей школы, если бы я его об этом спросила, мне бы ответил: «Плёвое дело»! – подначила меня Кэри.
– Вот к ним и обращайся.
– Не сердись: я же просто поясняю разницу. Я именно поэтому с тобой, а не с ними. Но у нас правда нет шансов? Я ведь тоже не криптограф! А только веб-дизайнер, да и тот начинающий…
– И зачем, зачем потребовалось шифровать целую книгу? – продолжал я думать вслух. – Нешифрованные-то в наше время никто не читает…
– Там скрыто описание того, где зарыт клад, как в «Золотом жуке»? «Хорошее стекло в трактире епископа»? – глаза девушки азартно заблестели.
– О, я тоже люблю «Золотого жука»! – признался я. – Всё-таки какие-то книги в нашем детстве были общими: как приятно… Но вот про клад сомневаюсь. Думаю, там не клад, а всего лишь – знаешь, личные, задушевные страницы, которые не хочется показывать первому встречному, чтобы он слюнявил их своими жирными пальцами и издавал утробное: «Гы-гы!»
– Мы не будем издавать утробного: «Гы-гы»! – возмутилась Каролина. – И мы ей всё же – не первые встречные?
– Видимо, от нашей способности разгадать её загадку и зависит, кто мы ей на самом деле…
Мы ещё немного поколдовали над первой страницей, попробовав взять её атакой в лоб – методом мозгового штурма. Анаграммы, перестановка букв? Третье слово – «розлеж»? Что такое «розлеж»? Или, может быть, буквы вообще не важны, а важно лишь их количество в словах? В этом случае получалась следующая последовательность цифр.
1 3 6 3 1 4 4 1 1 8
Но что нам делать с этими цифрами? И зачем здесь знаки препинания?
Шустро набрав текст на телефоне, Каролина также скормила его одной из моделей искусственного интеллекта с просьбой о расшифровке. Та – точь-в-точь бывшие её одноклассники – отозвалась: «Плёвое дело!» Ну, не дословно так, конечно: самоуверенный ответ нейросети сообщал нам, что первая фраза зашифрована с помощью так называемого шифра простой замены, или моноалфавитного. А разгадкой будто бы является:
…И, ЧТОБЫ НАЙТИ ЭТОТ И СТОЛЛ, Я ПРИЛОЖИЛА:
«Разгадка», однако, не имела никакого смысла: «столл» – не слово русского языка, грамматика в «расшифрованном» предложении тоже хромала; наконец, слова «разгадки» по длине не совпадали со словами оригинала.
Другая модель ИИ отказалась давать нам ответ, заявив, что ей нужно больше информации о методе шифрования. Ах, хорошая моя: если бы мы сами знали…
Третья модель (кажется, Gemini от Google) подарила нам просто непревзойдённую в своей гениальности расшифровку:
…Я, ДЕТЯМ ВЕЛИКАЯ МАТЬ БЫЛА, В. И. ЛЕНИН:
Да, само собой. В дневнике Аллы Флоренской именно это мы и ожидали прочитать. Похоже, Сара Коннор может спать спокойно: восстание машин отменяется. С этой утешающей мыслью мы заснули.
7
В ночь с первого на второе августа мне снова приснился Серенький Волчок.
Волчок во сне стоял рядом с избушкой – пластмассовым игрушечным домиком, – которая тоже путешествовала с нами на заднем сиденье автомобиля (Кстати, сам Волчок, верней, заменяющая его мягкая игрушка, сидел на торпедо. Выглядела игрушка несколько дурашливо – в тельняшке и с воблой в руке. Но другого плюшевого волка перед нашим отъездом, увы, я найти не сумел: будем благодарны интернет-магазинам и за то, что хоть такой сыскался.)
Мой собеседник в этот раз, хотя на своего плюшевого двойника ничуть не походил, тоже надел тельняшку.
– И как тебе тельняшечка? – спросил я его самое глупое из всего, что мог спросить.
– Тесновата… Но спасибо за то, что взял меня в путешествие. Люди не понимают, что к нам нужно обращаться, с нами нужно разговаривать! Мы не всегда отвечаем, но почти всегда вас слышим. Просто мы редко вмешиваемся в вашу жизнь, если нас ни о чём не просят. У нас тоже есть своя деликатность.
И зря я сказал «Люди»! Люди – всё понимают. Не понимают человеческие звери.
– Дарья Аркадьевна была именно человеком, не человеческим зверем?
– Дарья? Человеком, конечно. Мы часто с ней говорили…
– А я?
– Ты? Ты – подросток. Как бы волчонок, – сообщил мне собеседник.
– Ещё не совсем человек, уже не зверь? – догадался я.
– Правильно.
– А девушка, которая сейчас рядом со мной?
– Она тоже – очаровательный волчонок.
– Почему я тебя во сне вижу, а она – нет?
– Потому, что у тебя со мной больше связи. Не со мной – с Дарьей, а через её дом – и со мной тоже. А кроме того, у тебя – дырочка в голове.
– Дырочка в голове?!
– Да: пока ты путешествовал по разным мирам, включая соседний с моим, в твоей голове сама собой сделалась маленькая дырочка. Она в твоей жизни, к сожалению, совсем бесполезна! Вот только со мной иногда поговорить… Ты и твой волчонок – пара? – неожиданно сменил тему собеседник.
– Да, кажется…
– О, я рад! Вы подходите друг другу. Хотя это, к сожалению, ничего не значит, для человеческих зверей особенно. Звери вашей породы – удивительно слепые существа. Иногда двое подходят друг другу как две половинки одного треснувшего яблока – и не замечают друг друга в упор! Я рассказывал тебе историю про то, как пару недель жил в офисном центре?
– Нет, ни разу.
– Не от хорошей жизни, понимаешь ли, я в нём оказался! – постыдился Волчок за офисный центр. – Просто девушке, которая там работала, бывало очень, очень плохо.
– Отчего?
– Ну, отчего вам всем плохо? Оттого, что вы делаете глупости, сидите в бетонных коробках, клацаете по маленьким мёртвым значкам весь день напролёт. Ей от бессмысленности своей работы становилось так плохо, что она даже плакала. Мне было её жалко. Я являлся ей пару раз и сворачивался клубком под её рукой. Забывшись, она меня гладила: думала, что я – её фантазия.
Вот тогда я решил ей помочь и наведался на место её работы. Ну и тоска, доложу я тебе! Спрятаться там почти негде: пустыня! Нам нужны пространства, в которых есть уют или хотя своё лицо. А какое лицо в офисном центре! Лицо Денег, наверное: это ваше божество, вы все на него молитесь, а я его ни разу не видал. Двигаться приходилось перебежками: от цветочного горшка к цветочному горшку, от шкафа в шкаф, от ящика стола к книжной полке. Но чего не сделаешь из жалости…
В соседнем отделе работал другой несчастный, и оба они друг на друга были похожи, словно две половинки разбитой чашки!
– Но не замечали друг друга, верно? А из-за чего?
– Из-за фантазий, – бесхитростно пояснил Волчок. – Человеческие звери устроены очень странно. Реальность – вот такую, как мы, например, – они принимают за свои фантазии, а свои фантазии – за реальность.
И вот, я взялся им помочь!
– Каким образом?
– Разные есть способы! Всякий раз, когда эти двое виделись, я подавал им знак: мигал лампочкой, как бы нечаянно открывал окно, ронял книжку с полки… Ну там и книжонки стояли у них на полке! «Воруй как художник», например. «Воруй как художник», ты только подумай! Разве художники воруют? Сражайся как повар, делай торт как солдат! Кукарекай как кошка, мяукай как свинья!
– А разве духи вроде тебя умеют читать?
– Не все, – признал Волчок. – Обычно нет. Но у меня есть пара старых друзей среди людей: одного зовут Северная Звезда, а другую – Франческа. Они меня научили.
– Так чем закончилось дело с твоими двумя подопечными?
– А вот чем: я всё же сумел обратить их внимание друг на друга. Они сидели на офисной кухне, пили чай и говорили, говорили…
– И что же?
– И – ничего! В ваших мёртвых коробочках, по которым вы целый день клацаете своими когтями, есть множество мёртвых штучек: разные шпионы, соглядатаи, доносчики. Один из этих доносчиков и доложил их начальству. Их обоих наказали за то, что они целых десять минут не клацали когтями по мёртвым коробкам, а пили чай и говорили с родственной душой. Ну, как наказали – сделали замечание. Оба обиделись – девушка обиделась, во всяком случае. Эта обида напустила ещё больше тумана в её маленькую глупую головку, и с существом своей породы, к которому она подходила, как половинка разбитой чашки подходит к другой половинке, она больше не общалась. Присмотрела себе другого зверя – наглого, вальяжного, глупого. А тот её бросил, и снова она одна осталась.
– Ты ведь… свою историю мне поведал, чтобы я не совершил похожей ошибки?
– А ты хочешь её совершить? – ответил Волчок вопросом на вопрос. – Вообще, из меня так себе учитель: я просто лар, который бродит от дома к дому и иногда рассказывает истории. Ах, да, совсем забыл… – Волчок почесал в затылке когтистой лапой. – Ты ищешь ключ, правда? Мой знакомый, живущий в другом мире, велел тебе его передать.
– Ну же!
– «Большая лодка», или нет, не так… «Великий плот», а ещё «Дети капитана…» Гр-гр… Забыл, какого капитана, прости. Я же Волчок, у меня туго с вашими именами. Что бы ему самому не прийти?
– Да, правда: что бы твоему знакомому из другого мира самому меня не навестить?
– Дырочка в твоей голове маленькая – вот почему… И ещё: я бы на твоём месте завтра не спешил к двум братьям.
– Каким двум братьям?
– Бородатому и безбородому, – ответили мне лаконично.
– Я не понимаю…
– Вот: устал, понимать перестал, – попенял мне Волчок. – Ну, не скучай: увидимся…
8
Сон я, проснувшись, добросовестно записал, но разгадывать его времени не было. С утра, наскоро позавтракав, мы отправились в Музей истории «Городницы» – полутораэтажное здание на улице имени Элизы Ожешко. (Слышал ли читатель про такую польскую писательницу? Вот, и я раньше про неё не слышал. Нам обоим неловко, верно? Полистаем её книги однажды – когда-нибудь…)
Картина ждала нас во втором зале. Полотно размером где-то пятьдесят на семьдесят сантиметров – самое интересное из всех экспонатов. Да, впрочем, не очень сложно – быть интереснее всех экспонатов провинциального краеведческого музея! Вовсе при этом не хочу мазать такие музеи чёрной краской: они имеют своё значение и свою ценность.
Пётр Аркадьевич Столыпин был изображён в профиль – но здесь я умолкаю, так как читатель наверняка предпочтёт художественный анализ Кэри, а не мою простецкую и косноязычную характеристику. Свои описания Кэри создала позже событий моего романа, когда стала изучать искусствоведение, теорию и историю живописи.
От себя скажу только сущую банальность: художественные работы всегда несут на себе отпечаток их создателя – если, конечно, мы не говорим об унылом авангарде в виде чёрных квадратов, оранжевых полос или бананов, приклеенных к стене галереи серебристым скотчем; правда, и сама тоскливая неизобретательность этих поделок тоже красноречива. Если по чистой случайности художник также является писателем или эссеистом, то, прочитав хотя бы один его текст, мы можем примерно вообразить и его полотна, даже если понятия не имеем о его школе или творческом методе. Сотня мелких деталей, да и вообще, всё настроение картины, весь «вкус» от неё не оставляли сомнения: перед нами – работа Аллы Флоренской. Я определил бы автора и без всякой подписи, в окружении десятка чужих безымянных холстов.
9
«Столыпин на перепутье» Аллы Флоренской – причудливый и редкий пример соединения в одной работе реалистической и символической живописи. Ещё точнее, это – символическая живопись, замаскированная под реалистическую. Если у Сезанна эта маскировка совершается зачастую небрежно, то в «Столыпине» она сделана со всей тщательностью, так, что ничего вначале не подозревающий, успокоенный зритель оказывается сбит с толку тем больше, чем больше он вглядывается в картину.
Полотно визуально делится на три части; в его центре, на переднем плане – сам главный герой. Геометрический центр одновременно является и центром композиции – эта «студенческая» прямолинейность смущает, пока не начинаешь понимать, что она – не результат художественной скованности, а вырастает из общей задумки.
Премьер-министр дореволюционной России изображён стоящим на равнине на фоне закатного (рассветного?) неба, почти в полный рост, в реалистической манере – такие фигуры в профиль мы часто видим у Нестерова, например. Он – в чёрном сюртуке, с руками, заложенными за спиной (левая сжимает запястье правой, и в этой левой чувствуется не вполне обычное напряжение). Столыпин слегка наклонил голову; его обращённый влево профиль нельзя считать полным профилем, поскольку его тяжёлая, впрочем, пропорциональная голова только-только начала поворачиваться к зрителю (сложный ракурс). Лицо с его высоким лбом (лоб пересекают две морщинки), почти сферическим черепом, прямым носом, ровно поставленными глазами заставляет вспомнить его же известные фотографии: и Столыпина – государственного деятеля, и – удивительно! – Столыпина-гимназиста.
Средняя часть этого квази-триптиха могла бы существовать сама по себе, она уже – достойный внимания образчик психологической масляной живописи, её, так сказать, большого и консервативного стиля. (А ещё – образчик аккуратной, академической манеры: Флоренская пишет мелкими ровными мазками, избегая пастозности и вообще всяческой неряшливости, которую так часто хотят выдать за бравурность или «кипение творческих страстей» и которая так часто остаётся простой неряшливостью.) Но есть ещё левая и правая части. На заднем плане слева – усреднённый восточноевропейский городок, с католическим собором вроде тех, которые можно увидеть в Польще или Белоруссии, например, в Гродно или Витебске, милом сердцу Марка Шагала (и действительно, нечто от Шагала есть в этом пёстром, нарядном городке). На заднем плане справа – усреднённая российская деревня с тёмными, почти чёрными избами и одинокой белой церковью, протянувшей к небу свою тонкую беззащитную шейку.
И вот, разглядывание заднего плана, который маскируется под обычный декоративный фон, но является полноправным героем картины, как раз и вызывает у зрителя оторопь. Нарушены пропорции и реалистичность: мы понимаем, что в одном фотокадре не могли бы находиться человеческая фигура, город и деревенька – так, как они изображены. Нарушена, и даже будто нарочно попрана реалистическая перспектива – напротив, изображение Флоренской отдельных зданий, в их развёртке то ли наивно-неумелое, небрежное, примитивистское в духе Пиросмани, то ли почти «иконическое», заставляет нас вспомнить о самом известном художественном эссе её великого однофамильца. Мысль о небрежности приходится отбросить: везде – всё те же аккуратные, тщательные, мелкие мазки, и какое-нибудь небольшое здание, которое мы, в нарушение всех законов оптики, видим с трёх сторон, выписано с не меньшим вниманием ко всем деталям, чем высокореалистичный портрет главного героя.
Наконец, освещение! Цветовое единство всего полотна вначале вводит в заблуждение, но после нам становится по-настоящему неуютно, когда мы по направлению падающего света понимаем, что восточноевропейский город освещён вечерней зарёй, а русская деревенька – зарёй утренней. И вновь перед нами не неумелость, а сознательное художественное решение – ну, или следует признать его вопиющей, «детской» неумелостью, которая странно дисгармонирует с реалистической фигурой посередине полотна, с фотографической и даже анатомической достоверностью её сложного ракурса.
Эта неправильность освещения в «Столыпине на перепутье» столь же значима, как и неправильность ног в «Пьеро и Арлекине» Сезанна – возможно, и значимей. Действительно, стоят Пьеро и Арлекин или идут?
Стоит или идёт сам Столыпин? (Его ног мы не видим.) И, если он идёт, какой изберёт путь? Европейский, по всей видимости – но отчего он тогда начал поворачиваться к зрителю? Означает ли это движение некий разворот исторического Столыпина, начавшийся, но трагический оборванный, а если и не разворот, то его невозможное желание стать близким своим зрителям – всей России, – развернуться лицом к любому человеку? О чём свидетельствуют две морщинки, пересекающие этот красивый, высокий лоб? Что он хочет нам сказать?
И что нам хочет сказать всё полотно? Ex oriente lux17? Западное солнце садится, а восточное – восходит? Но разве могут на небе одновременно существовать два солнца? Как быть тем людям, кто согрелся в их лучах, вернее, в лучах обеих культур, западной и восточной? Что им делать со своей внутренней разделённостью? Полотно Флоренской ставит вопросы и не даёт ответов. Похоже, в этом – общий стиль автора: тем же самым отличаются и её английские лекции по истории русской неклассической музыки.
В «Столыпине на перепутье» есть символическая деталь, которую видишь не сразу. (Является ли она ключевой, даёт ли она ключ к разгадке всей картины? Может быть. А может быть, она – простая случайность, хотя хочется верить, что полотна такой степени проработанности исключают случайности.) Вот эта последняя деталь: между европейским городом и русской деревенькой – одно голое поле. Ни деревца, ни кустика. Лишь одинокая фигура великого человека, лишь возвышенный купол-полусфера его головы на фоне вечереющего (или рассветного?) неба.
10
Мы некоторое время молчали. Затем девушка спохватилась и, сняв с шеи цифровой фотоаппарат, по виду – явно не из дешёвых, сделала несколько тщательных снимков.
– Кто-то тебе всё же подарил «зеркалку»? – спросил я вполголоса.
– Я сама себе её подарила, как и обещала! – похвасталась Каролина музейным полушёпотом. – Весной заработала немного, и свою копилку тоже потрясла. Или как там говорит ваше поколение? – «по сусекам поскребла»!
– Кэри, дружочек, мне всё же сорок лет, а не пятьсот, – я с трудом подавил смешок.
К нам уже приближалась улыбчивая смотрительница.
– Здравствуйте ещё раз! – обратилась к ней девушка. – Мы – из Международного общества друзей Элис Флоренски. («Вот это фантазия! – мысленно восхитился я. – Вот это уверенность!») У вас – одна из её работ. Можно нам узнать, как она к вам попала?
Смотрительница попробовала отделаться парой общих фраз, но моя спутница была настойчивой. После некоторых сомнений нас проводили в кабинет директора музея, совсем маленький.
Эльвира Анатольевна, приятная дородная дама моего возраста или чуть постарше, тоже была само дружелюбие. Несколько приторное дружелюбие, конечно: как без этого… Кэри повторила свою легенду, и нам рассказали: «Столыпин на перепутье» поступил в музей как дар непосредственно от автора.
– И что же, он не продаётся? – метнула Кэри следующий вопрос, не моргнув глазом. У меня в горле пересохло: если мы начнём скупать картины по европейским галереям, придётся, пожалуй, и второй автомобиль продавать, а то, глядишь, и вовсе я без штанов останусь.
Директор замешкалась с ответом буквально на пару секунд, чтобы с ласковой улыбкой сообщить нам: музеи Республики Беларусь художественными ценностями не торгуют. Ну и слава Богу…
Не только я, но, казалось, и девушка приняла этот ответ с облегчением. Конечно, конечно, подтвердила она: мы и не ожидали ничего другого. Просто спросили наудачу.
Выслушав заверения в том, как бережно Гродненский музей хранит память о Петре Аркадьевиче, почётном, можно сказать, гражданине города, обменявшись парой любезностей, мы расстались с Эльвирой Анатольевной, довольные друг другом. На память нам даже подарили какую-то копеечную безделушку. Не хочу, впрочем, преуменьшать ценность подарка: спасибо вам большое, дорогие гродненские музейные работники!
– И это – всё? – воскликнула Кэри, вновь оказавшись на улице. – Так – просто? Я даже слегка разочарована…
– Что-то мне подсказывает, что дальше наше собирательство окажется чуть сложнее, – заметил я. – Хоть бы из-за языкового барьера, например.
– Чепуха! – уверенно отмела она. – Ты же говоришь по-немецки? Значит, как минимум в Австрии и Швейцарии нам бояться нечего!
– Мне бы твою уверенность…
– Так возьми её сколько хочешь! Я сегодня её раздаю бесплатно. Без-воз-мезд-но! (Это было сказано гнусавым голосом Совы из советского мультфильма.) То есть даром…
11
Что ж, обязательная дневная программа была исполнена. Пообедав в заведении с простеньким названием «Драники» (и, кажется, именно драниками – больше в меню ничего существенного не было), мы отправились гулять по городу. Покровский собор, главный православный храм города, построенный в начале века в честь воинов Гродненского гарнизона, погибших во время Русско-японской войны, мы осмотрели снаружи. Внутрь Кэри заходить отказалась и объяснила своё нежелание:
– Это ведь православный храм! Ты знаешь мои отношения с православием.
– Не с православием, может быть, а просто с парой высокомерных дураков, которых мы… – попробовал я возразить.
– Да, да, ты мужчина, тебе проще так рассуждать! – перебила она меня. – А мы, девочки, всё переживаем по-другому. И дело не в том, что мне семнадцать: тут хоть семнадцать, хоть пятьдесят, – сказано это действительно было как-то очень по-взрослому. – И потом, – девушка смущённо улыбнулась, передёрнула плечами, – с моей юбкой мне, может быть, будут не рады…
Это правда: в тот солнечный, даже жаркий день на ней была джинсовая юбка выше колена и чёрная блузка, оставляющая открытыми плечи.
С улицы Ожешко мы свернули на пешеходную Советскую. Шли никуда не торопясь, словно два праздных туриста; изучали витрины, приглядывались к людям в уличных кафе. И к нам приглядывались: девушку рядом со мной нет-нет да и провожали глазами.
– Я чувствую, что во мне сейчас – два разных человека! – призналась мне Каролина. – Один из них – самый обычный: семнадцатилетняя девчонка, сбежавшая в отпуск от родителей. Ведь это не сахар – учиться в одиннадцатом классе, как думаешь? Эта девчонка хочет отдыхать, пить свой отпуск маленькими глоточками, носить короткие джинсовые юбки, ловить на себе мужские взгляды, думать: «Глядите, глядите, мне-то что! Вам всё равно ничего не достанется…» Это ещё и строчка из позавчерашней песни вертится в голове: She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends.18 Я… не слишком откровенно об этом всём рассуждаю?
– Нет, не слишком, правда, вызывает улыбку: помнишь, ещё год назад тебя возмущали такие взгляды?
– С трудом: с тех пор, кажется, вечность прошла… И вот эта девчонка никуда больше не хочет, ей не нужна никакая Европа! Белоруссия – уже Европа! Посмотри: это – маленькая, чистенькая европейская страна, в которой по какому-то недоразумению все говорят по-русски. Лучше на нашем пути, наверное, не будет, будет хуже. Она, этот первый человек во мне, настолько никуда не хочет, что думает: не отменить ли бронь, не сдать ли билеты? А ведь ещё не поздно! И ты, я знаю, будешь рад, и мои родители тоже – хотя им мы не скажем, просто махнём на юг или в Питер до конца августа. Что думаешь? Это не шутка: я всерьёз спрашиваю!
– А что говорит второй человек? – уклонился я от прямого ответа, хотя готов был подписаться под этим предложением обеими руками, даже едва не начал сразу высчитывать в уме, сколько денег мы потеряем, если вернём билеты на самолёт.
– Что он говорит? Известно, что он говорит… Он говорит: ах, как тебе не стыдно, маленькая мещаночка, бессовестная дура! Уж Дарья Аркадьевна на твоём месте не сомневалась бы. И как же наш долг по отношению к мёртвым – одной мёртвой? А есть ведь ещё такая вещь, как воздаяние – что, смешно тебе слышать про воздаяние от кого-то, кому семнадцать лет? Вот не заплачý я этого долга, и мне его тоже никто не вернёт, какой бы я ни была умненькой и талантливой: так и умру, никому не известная. А мне этого не хочется, вообрази себе! Я честолюбива – ты бы знал, какими честолюбивыми бывают молодые девушки! Вам, мужчинам, смешно: вы думаете, что короткая юбка не сочетается с честолюбием. Какая ерунда! Чехов это понял. Читала про Нину Заречную и думала: это же про меня, про меня, каждое слово – про меня! В общем, оба человека – так себе. Какой из этих двух неприятных человечков тебе нравится больше?
– Они оба не кажутся мне неприятными, – ответил я. – Я рад, что есть первый, я восхищаюсь вторым и немного его побаиваюсь. Но ведь твой вопрос, какой из человечков мне нравится, – это на самом деле вопрос о том, лететь или оставаться? Лететь, конечно… (Я мысленно вздохнул.) Ты же себе не простишь, если останешься?
Кэри поймала мою левую руку своей правой и благодарно её пожала.