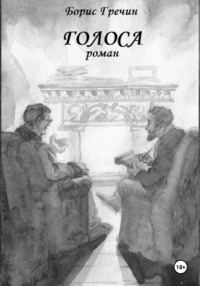Полная версия
Последняя Европа
Оказавшись с ней наедине, я поторопился произнести:
– Ирина Константиновна, я понимаю, как это выглядит, то есть может выглядеть, но хочу вас уверить, что наши отношения с Каролиной, если вообще использовать такое торжественное и весомое слово, как «отношения», – чисто платонические, и что до самого…
– О, ещё бы! – фыркнула она, этим на секунду напомнив Кэри. – Ещё бы он сказал что-то другое! Не подумайте, Олег Валерьевич, я прогрессивная женщина, я понимаю, что мир не стоит на месте. Но вы посудите сами! Если бы у вас была своя дочь, она была бы сейчас примерно того же возраста!
– У меня действительно была дочь, – признался я. – Сейчас она была бы помладше, конечно…
Сослагательное наклонение не укрылось от моей собеседницы, которая спросила лаконично и точно:
– Была бы – почему?
– Потому, что для своих родителей она навеки останется пятилетней… Мы, собственно, и с женой-то развелись потому, что не преодолели этой утраты, верней, преодолевали её по-разному и… и, в общем, слишком по-разному. Звучит, наверное, по-детски…
– Нет, не по-детски. Извините, я не знала. Возможно, вы всё же лучше, чем я о вас совсем недавно подумала…
Мне пришлось дать полный отчёт и в моей семейной ситуации, и в подробностях развода, и в том, чем зарабатываю на жизнь. От меня также попросили пообещать, что наши с Каролиной отношения останутся полностью платоническими по крайней мере до её совершеннолетия – и, конечно, я пообещал с лёгким сердцем. Ирина Константиновна только вздохнула:
– Дура я, дура, что беру у вас это обещание! Как будто кого и когда такие обещания останавливали…
– Я, разумеется, собираюсь его исполнять!
– А я и не про вас совсем: мне тоже было семнадцать лет… Как будто кто-то сможет сдержать эту… кобылицу! Олег Валерьевич, я не должна этого говорить о дочери, особенно за глаза, и особенно, наверное, вам, но ведь с ней последнее время нет никакого сладу! Вы заметили, как она изменилась за полгода? Мы с вами – мы ведь в её возрасте не были такими?
– Заметил, да, но…
– Но?
– …Но все те буйные идеи, которые в ней сейчас бушуют, – это возвышенные, благородные идеи, пусть и очень преувеличенные. Мы не были такими, наверное, потому, что взрослели в более суровое время, и это время все наши порывы немного приплющило, огрубило…
– Ах, вы так гладко говорите, и, конечно, материнскому сердцу хочется верить, но полностью-то не верится… А я ведь ещё ничего не рассказала о вас, то есть о вашем возрасте, Михаилу Сергеевичу – как-то он воспримет?
На этом месте Кэри просунула в дверь свою любопытную голову:
– Мама, долго вы ещё? Что это ты устроила за допрос с пристрастием? Олег – мой гость, а не твой!
– Карлуша, не говори глупостей – и поставь себя, пожалуйста, на моё место!
– Вот, снова, ещё и «Карлуша»… Каркуша! Карлик-Нос, Карловы Вары… Я не замуж ещё за него выхожу, чтобы держать его двадцать минут взаперти!
– Уйди, уйди, ради Бога! – замахала мать на неё руками. – Мы ещё не закончили!
Но мы, как выяснилось, почти и закончили. После нас ждал чай с тортом и несколько неловкая беседа, в течение которой каждый пытался найти верный общий тон, этакая групповая психотерапевтическая сессия в миниатюре. Ничего, обошлось без ужасных ляпов и без зловещего молчания. Всё хорошо, а лучше всего то, что любые такие мероприятия однажды кончаются.
Поздним вечером Кэри «обрадовала» меня коротким сообщением:
Ты произвёл на маму прекрасное впечатление, хоть она в этом и не признается. Настолько прекрасное, что я даже слегка разочарована.
Вот, всё ей не так… Я нашёл в себе мужество уточнить: «Чем именно разочарована?» На это мне ответили:
Да всем… Подарком, например.
Неожиданно, правда?
«Наверное, я должен был тебе всё-таки подарить фотоаппарат- “зеркалку”, не зря ты о нём весь месяц твердила…» – шутливо покаялся я.
Нет, нет, нет! Ни в коем случае! На фотоаппарат я накоплю сама, я не чья-нибудь содержанка. Зря написала, дурно с моей стороны. Дядя Олег, не берите в голову!
Вот, снова «вы» и «дядя»…
И сразу после меня наградили ещё одним:
Розы – прекрасный подарок. Они меня тронули. Но в цветах есть доля предсказуемости, буржуазной банальности. А я хотела… Бог знает, чего я вообще хотела и хочу. Я хочу несбыточного, я хочу подвига, я хочу открытия тайн…
Прочитав последнее, я только вздохнул. Как отвечать на такое? Связался, что называется, чёрт с младенцем…
10
Первая суббота января 2024-го выпадала на православный сочельник. Тем не менее, мы решили провести встречу «Клуба взаимной помощи» – в обычное время, пять часов вечера.
Когда все заняли свои места, я по обыкновению спросил, у кого сегодня имеется что-то важное и кто сегодня претендует на какую-то часть общего внимания.
– Начну я, – объявила Дина, моя ровесница, – но мне потребуется пять минут, не больше. На следующем собрании меня не будет. Я уезжаю в Крым на полгода. Или навсегда, как получится.
Аврелий, оживившись, засы́пал её вопросами. Дина отвечала неохотно: она уже удалялась от нас, уже мысленно была в своём Крыму. Призналась, наконец, делая усилие над собой, с некоторым нарочитым холодком в голосе:
– Мне жаль прощаться, и я вам всем благодарна, но одновременно я рада, что переезжаю. Я, как вы знаете, долго чувствовала себя не полностью здоровой – Дарья Аркадьевна меня вытащила из пропасти, как, наверное, и не одну меня. Чтобы отойти от края пропасти, я и посещала занятия. Кажется, отошла – боюсь сглазить. Теперь оставаться в Клубе для меня – это вспоминать, какой я была раньше. Я не хочу этих воспоминаний. Простите.
– Можно было бы и других оттаскивать от края пропасти, Дина Евгеньевна, – заметила Кэри тихо и не по-юношески мудро. Дина слабо улыбнулась:
– Можно… Я женщина, а не трактор. Простите ещё раз.
На этом месте я взял слово и сказал всё, что руководителю группы полагается говорить в таких случаях, то есть что это – смелое решение, которое мы все, конечно, только поддерживаем; что наши двери, если это понадобится, будут для неё всегда открыты. «Группу надо расширять, приглашать новых участников, если мы хотим её сохранить! – думалось мне, пока я почти механически проговаривал нужные слова. – А хотим ли? С этими людьми я связан общей судьбой, а с теми – буду ли? Этих я обязан “накормить сыром”, за неимением у меня колбасы, по меткому выражению Качинского, а на других хватит ли ещё у меня сыра? Эти люди, пережившие кораблекрушение вместе со мной, не имеют вопросов к моей квалификации самозваного психолога, а другие разве не зададут таких вопросов?»
Мои мысли прервала Юля Уточкина, тихая, скромная девушка, сдержанная в одежде, пропорционально сложенная, даже почти симпатичная, но слишком бесцветная, чтобы быть по-настоящему красивой. Во время сессий она слушала других внимательно, и мне хотелось верить, что это слушание для неё, юного человека, оказывалось не без пользы, но говорила меньше всех. Сейчас она вдруг начала:
– Если у Дины – всё, то и я тоже скажу пару слов. Я этим не злоупотребляю; видит Бог, мне и сейчас нелегко. Я… кажется, влюбилась – а может быть, полюбила. Не знаю этих оттенков: мне негде было узнать и не у кого спросить. Нет, нет, не поздравляйте меня! Я думаю, что это чувство, скорей всего, будет безответным. Шансов у меня очень мало, если вообще они есть, эти шансы. Вот поэтому… знаю, одно не вяжется с другим, но… вот поэтому меня, скорей всего, тоже не будет на следующем занятии.
Да, одно с другим действительно никак не вязалось!
Аврелий, снова оживившийся, фактически взял мою работу на себя, задавая Юле всё нужные и правильные вопросы, а именно:
– Что ей мешает прийти в следующий раз?
– Почему она считает свои шансы ничтожными?
– Знает ли она, что группа существует как раз для таких случаев – ситуаций, с которыми человек не может справиться самостоятельно?
– Отчего Юля не хочет быть более откровенной, и отчего она нарушает один из трёх главных принципов группы, а именно принцип открытости?
Вообще, про участие Аврелия в Клубе стоит сказать особо. Чисто внешне он вписался в групповую психотерапевтическую работу просто идеально: он сразу понял правила игры, он говорил активно и искренне, вёл себя дружелюбно и терапевтично. И при этом сам для себя он, казалось мне, не извлекал из работы группы никакой пользы (да и другим, возможно, её почти не приносил). Авель (его второе имечко) был слишком похож на гуся из поговорки, с которого стекает любая вода. Никакие «человеческие, слишком человеческие» чувства в нём не только не задерживались, а словно даже не появлялись. Гнев, раздражение, обида? Увольте: зачем гнев, раздражение, обида, когда все люди – братья друг другу и все должны быть счастливы, как он понял благодаря наставлениям «матушки Дорофеи», но на самом деле намного, намного раньше? Зависть, ревность? Чему завидовать, ради чего ревновать? Муки неразделённой любви? Не слышал о таком… (А возможно, и влюблён-то по-настоящему ни разу не был.) Аврелий напоминал коралловый риф с огромными дырами, через которые маленькая рыбка любого чувства или душевного состояния могла проплыть в любом направлении, не встречая препятствий. Бог знает, что делать с такими людьми…
Юля на все вопросы Аврелия только качала головой, отделываясь короткими фразами. На последний вопрос она и вовсе ничего не ответила, а только подняла взгляд и уставилась ему прямо в глаза, словно говоря: «Господи, какой же ты… какой же ты дурак!» – так что и наш невинный юноша, созданный для счастья, как птица для полёта, наконец смутился.
(Кстати, в скобках: всегда меня, ещё в школе, смущал этот лозунг Короленко о естественности счастья для человека, который школьные учителя литературы ничтоже сумняшеся преподносят своей юной пастве как святую истину. О Короленко мы, помнится, однажды, говорили и с Семёном Григорьевичем. Качинский не только согласился с моим сомнением, но высказал вот какую лаконичную мудрость: «Земля есть великая школа, и для большинства – школа страданий». По его словам, не сам он дошёл до этой мудрости, а услышал её от Дарьи Аркадьевны. Может быть, люди вроде Аврелия, вместо того чтобы учиться в этой школе, просто режутся в «дурачка» на задней парте? Впрочем, не хочу никого судить: не моего ума дело, и не мой он, к счастью, ученик!)
Долго ли, коротко ли, но Юля наотрез отказалась говорить о случившемся с ней больше, чем уже сказала. После этого встреча и вовсе пошла наперекосяк. Слова попросил Качинский и начал долго, пространно – хотя откровенно, разумеется, – рассуждать о том, что сегодня, в сочельник, он всё же пойдёт на службу в храм, и какой именно храм, что бы мы думали? – в православный!, ведь «христианство Маленького принца» не предложило, увы ему и ах, не предложило никакой службы взамен («…А могло бы, Олег Валерьевич, могло бы!»), и что это посещение храма уже заранее вызывает в нём противоречивые, почти шизофренические чувства («Ведь так это называется языком психологии?»). И что, спрашивается, ему делать с этим душевным расколом?
Я сочувствовал старику всей душой и ввязался с ним в беседу, но вскоре обнаружил, что никому, кроме нас двоих – да вот ещё Кэри, пожалуй, – эта беседа по-настоящему не интересна. Аврелий, конечно, сидел с лицом, изображающим дружелюбное внимание, и поочерёдно, словно локатор, поворачивался к каждому из двух собеседников, но это ведь в ходе работы группы было его обычное, так сказать, служебное лицо…
Худо-бедно я добрался до какой-то логической точки, а после провёл пятиминутную дыхательную методику, вычитанную мной в пособии по телесно-ориентированной терапии (название учебника, увы, уже запамятовал). После каждый, как было у нас заведено, прочитал свою молитву.
Юля продолжила в тот вечер нас удивлять: вместо молитвы она припасла блоковское «Девушка пела в церковном хоре». Читала она его без всякого внешнего выражения, ровно, холодно, отчётливо, и её голос – вместе с содержанием, конечно! – производил жуткое впечатление.
Качинский на последних двух строчках беспокойно заёрзал на месте и откашлялся.
– Я знаю, что вы хотите сказать, Семён Григорьевич, – озвучил я его мысли, бывшие, конечно, и моими мыслями тоже. – Это стихотворение финальностью своей безнадёжности не только не создаёт молитвенного настроя, но как бы является антимолитвой. В пространстве именно религиозной общины оно было бы бестактно и глубоко неуместно. Правда. Согласен. Но ведь и мы – не вполне религиозная община. Мы – пережившие общую утрату «товарищи по земному несчастью». Поэтому позволим ему быть тоже.
Качинский только развёл руками, беззащитно улыбаясь:
– Да, конечно, позволим! Я просто не хотел заканчивать на этой ноте, и ещё в такой день! Я не хотел и не хочу, чтобы «Никто не придёт назад» повисло в воздухе.
Глаза Кэри, неотрывно наблюдавшей за Юлей, были полны слёз, что для меня оказалось неожиданностью и глубоко тронуло. Вот, подвинув свой стул ближе к своей ровеснице, она заговорила:
– Я не хотела сегодня ничего читать, но последней строчке из Блока действительно нельзя позволять висеть в воздухе. Юля, всё будет так, как пела девушка из хора: все корабли прибудут в свою гавань, все усталые люди найдут новую жизнь. А ребёнок – мало ли о чём плакал ребёнок? Может быть, у него просто отняли игрушку! У меня тоже есть молитва – буквально восемь строчек из одного… одного очень глупого человека, когда дело доходило до политики, но стихи писать он умел, этого у него не отнимешь. По-английски – можно? Просто его никто не перевёл на русский как следует – боюсь, уже и не переведёт.
И ясным, звонким голосом она прочитала две заключительные строфы из начала «Памяти А. Г. Х.» Теннисона:
Forgive my grief for one removed,
The creature whom I found so fair:
I trust he lives in Thee, and there
I find him worthier to be loved.
Forgive these wild and wandering cries,
Confusions of a wasted youth,
Forgive them, when they fail in truth,
And in Thy wisdom make me wise.2
Я знаю английский не настолько, чтобы на слух ловить все оттенки смыслов духовной поэзии XIX века – но сам звук её голоса как будто уже нёс в себе утешение, веру и надежду. После, попросив у Кэри прозаический перевод, я обнаружил, что моя догадка о смыслах была верной. Как ко двору пришлось это стихотворение, как точно оно сказало о «диких криках смятенной юности», с которыми ничего не сделать, кроме как простить их! Как повзрослела Каролина за эти полгода!
Подсев к любительнице Блока ещё ближе и взяв её безвольно висящую руку в свою, глядя на неё, Кэри произнесла:
– Юля, я уверена, что ты должна ему признаться! Иначе так всю жизнь и будешь жалеть.
Юля вернула ей взгляд – очень смешанный, очень сложный. Я не мастер читать чужие чувства по глазам, но этот взгляд, возможно, не расшифровал бы ни один человекознатец.
Мне ничего не оставалось, как объявить встречу законченной. Будет ли новая?
11
Вечером следующего, рождественского дня – я как раз вернулся домой после долгой прогулки с Кэри – мой телефон прожужжал коротким сообщением. Юля Уточкина. (Невероятно! За всё время моего знакомства с ней Юля написала мне лично, кажется, только один раз, двумя словами подтвердив, что придёт на учредительное собрание религиозной группы. Этот раз был вторым.) Юля спрашивала меня, буду ли я дома вечером, можно ли ей зайти ко мне домой на несколько минут. Да уж! Последние времена настали…
Примерно через час после своего сообщения она прибыла и сама, сдержанная, молчаливая.
В моей комнате с началом работы Клуба появились три дополнительных стула, которые я штабелировал в углу комнаты. Юля вынула из штабеля два стула, будто готовилась к очередной сессии. Выставила их друг напротив друга. Села на один, таким образом приглашая меня сесть на второй.
Заняв места, мы смотрели друг на друга верную минуту.
В одном из пособий по психотерапии говорится, что торопить клиента не нужно. Если ему требуется молчать, пусть молчит, сколько его душе угодно. Само молчание – разговор. Возможно… Но я – не профессиональный психолог, а всего лишь любитель, дилетант, некто, «открывший сырную лавку» просто потому, что больше некому было её открыть. И оттого я не выдержал, спросив наконец:
– Вы хотели обсудить вчерашнее?
Юля кивнула.
– Мне не нужно было вчера читать Блока, – заговорила она. – Глупо, нехорошо, эгоистично, и совершенно справедливо ваша Каролинка меня пристыдила.
– Никто вас не стыдил, и почему «моя»? О, как вы ошибаетесь!
– А вы догадались, как связана моя влюблённость и мой выход из группы? – Юля бросила старую тему как ненужную тряпку, будто всё, что стоило о ней сказать, мы уже сказали (да так оно и было, пожалуй).
– Всё же выход, именно выход? – огорчился я. – Даже не пауза? Нет, не догадался. И действительно, почему? Ума не приложу!
– А сейчас – догадаетесь?
И снова девушка замолчала, и снова мы глядели прямо друг другу в глаза.
Да, я тугодум, Поздеев, о чём уже много, много раз говорил. Мне потребовалась ещё целая минута, чтобы догадаться. Увидев по моим глазам, что это произошло, Юля еле заметно кивнула.
– Вы оба очень тщательно прячете волны любви, которые от вас исходят, – продолжила она. – Так, что многие и не заметят. Но я, конечно, заметила. Знаете, я сначала влюбилась не в вас, а в само чувство любви, в то, что так тоже бывает. Может быть, из зависти. Дурное чувство, я знаю, но что уж поделать. Хотела бы я быть такой же пустоголовой, как Авель, чтобы ничего этого не знать!
– Я не заслуживаю, – только и сумел пробормотать я.
– А я понимаю! – ответила мне Юля очень спокойно и даже слегка безжалостно. («Вот уж спасибо, мил-человек!») – Понимаю умом, но что поделать? Знаете, в моей влюблённости – огромная доля… несправедливости, то есть возмущения несправедливостью. Что-то во мне кричит: «Я тоже хочу!» и «Почему одним – всё, а другим – ничего?» Тот самый дикий крик бездарной юности. Ведь я бездарна! И как человек я бездарна, нет во мне никаких особых талантов, и как девушка – тоже бездарна. Скажете, не так? Что насчёт полной искренности – первого принципа Клуба?
– Ничего об этом не скажу, но то, о чём вы говорите, – не приговор, Юля! Мы способны развить в себе все таланты, включая и этот.
– Спасибо! Но сейчас-то, прямо сейчас, что мне делать? Есть у вас ответ?
Разумеется, у меня не было ответа. У меня были только дежурные слова о моей благодарности за её честность; о том, что жизнь после безответного чувства не кончается; о том, что любой эмоциональный опыт нас обогащает; о том, что она ещё так молода, и у неё впереди – ещё так много славного; о том, что группа всегда будет готова её поддержать. Юля, выслушав это всё, улыбнулась одними губами, словно говоря: «Не стоило труда», и поднялась. В прихожей мы с ней попрощались – возможно, навсегда.
С уходом Дины и Юли в Клубе оставалось, кроме меня, ровно три участника, один из которых сетовал на то, что его заставили есть сыр вместо колбасы, а другой, что бы с ним ни случилось, и без того парил на крыльях внутреннего счастья. (Пустоголового счастья? Повторюсь, пусть об этом судят другие, а не я.) Осознав это, я написал оставшимся большое, подробное письмо с изложением своих мотивов и предложил группе взять полугодичную паузу в работе. Ещё честнее было бы прямо объявить о роспуске, но что-то мне не дало так поступить – может быть, банальное малодушие. Моё предложение было проголосовано и одобрено большинством при одном воздержавшемся.
12
Ближе к концу января подошло время и моего дня рождения. По общей традиции, вернее, по какому-то непонятному суеверию сорок лет «не отмечают». Пользуясь именно этим суеверием, я настойчиво попросил Кэри не дарить мне никаких подарков. Какие, спрашивается, мне, работающему человеку, она, школьница, могла подарить подарки?
У Каролины, похоже, были свои соображения на этот счёт…
Утром памятного дня (так совпало, что он пришёлся на выходной) Кэри позвонила мне и после приличествующих поздравлений объявила, что, дескать, меня будут сегодня рады видеть оба её родителя!
Сомнительный подарок, конечно. Но, если я всерьёз строил планы на будущее с этой девушкой, большого разговора было не избежать. В несколько мрачном настроении я поднимался по знакомой лестнице, запасясь маленьким, лаконичным букетиком, за которым в этот раз при звонке в видеофон даже не попытался скрыться.
Каролина встретила меня в приталенном, расширяющемся книзу, лёгком летнем платье, которое я уже однажды видел на ней: именно в этом платье она как-то летом поспешила мне на помощь, когда моя бывшая жена явилась ко мне домой, чтобы, так сказать, вправить мне мозги. Читайте эту историю в предыдущем романе.
– Это – мне? Как мило!
– А где родители?
– Обманула, обманула! – засмеялась девушка и весело захлопала в ладоши. – Их не будет до вечера.
– Не то чтобы я против… но зачем?!
– Да ты бы иначе не приехал!
– Само собой! – подтвердил я. – И ты знаешь, почему.
– Нет, не знаю, даже не догадываюсь… Ты боишься меня так, словно я кусаюсь!
Бестрепетно взяв меня за руку, Кэри повела меня по квартире: «делать экскурсию». Долго ли, коротко ли, но мы оказались и в её девичьей комнатке, где ей пришла в голову шальная мысль: непременно показать мне свои детские фотографии! Я пытался отнекаться:
– Не нужно, спасибо!
– Нет, тебе будет очень, очень интересно, я гарантирую…
Никакого альбома, однако, не было: родители девушки относились к её фотографиям несколько небрежно, просто складывая их в картонную коробку. Коробка стояла на высоком платяном шкафу. Чтобы достать её, Кэри поставила рядом со шкафом стул – вращающийся, фортепьянный, с регулируемой высотой.
– Дай-ка я сам её сниму, – предложил я: стул не вызывал доверия.
– Нет, ты не понимаешь: снять коробку могу только я! Так полагается! Но ты тоже можешь сделать доброе дело: держи меня пожалуйста, за талию, а не то я проще простого навернусь отсюда. Фу, сколько пыли! Держи меня крепче, не то… А-а!
(Пояснение. Обо всём, что произошло дальше, мне писать отчасти неловко, и я, видит Бог, обошёлся бы без этого фрагмента – просто намекнул бы на произошедшее в двух словах. Помешала этому сама Каролина. Она знает, что я пишу новый роман, и возмутилась моей готовности к самоцензуре. По её словам, всё дальнейшее – важная часть, которую нельзя выкидывать из повествования. Ей виднее…)
Кэри, конечно, начала падать – не могу сказать, с умыслом или нечаянно. Разумеется, я её удержал. Само собой, она оказалась в моих объятиях.
Опустим то, что происходило дальше. Достаточно будет пояснить, что мы остановились – главным образом по моей инициативе – в двух шагах от непоправимого поступка.
Девушка оправила платье, тяжело дыша. Присела на злосчастный стульчик. Мне тоже пришлось присесть: на кровать, в которой мы пару секунд назад едва не очутились (я мог бы этого и не говорить, конечно: воистину, я вполне могу побороться за звание Капитана Очевидность).
– Я ничего не понимаю, – заговорила она. – Я, что, действительно Карлик-Нос, как меня дразнили в детстве? Или маленькая ведьма Аннабель, в волосах которой копошатся жуки и гусеницы?
– Откуда ты зна… Ах, да, я же сам… – я вспомнил, что в досужую минуту, когда Кэри заинтересовалась моим детством, сам показал ей детскую книжку про немецкую ведьмочку и, перелистав страницы с красочными картинками, сам рассказал содержание.
– Сам, сам! Что, я действительно – именно она?
– Кэри, милая, я в первую очередь не хочу нарушать слова, которое я дал…
– Кому?
– Самому себе, если хочешь, – извернулся я. – Одни и те же вещи очень по-разному видятся в семнадцать лет и в сорок…
– Неправда! Самые важные вещи в любом возрасте выглядят одинаково!
– Наверное, но вот это всё точно не входит в категорию самых важных… Может быть, ты помнишь своё письмо, своё замечательное, трогательное письмо…
– Ещё бы!
– …В котором ты сама, сама писала мне: «До моего совершеннолетия – ещё полтора года», и сама просила меня дождаться?
– Я не моего совершеннолетия просила дождаться, дурень! А того момента, когда я созрею как девушка!
Действительно: все эти полгода я с беспокойством наблюдал за тем, как Кэри всё хорошеет и становится всё более женственной.
– Но ведь я не умею читать мысли…
(Вообще, она, наверное, лукавила: письмо понималось строго определённым образом. Простим ей это.)
– Ты не мысли не умеешь читать, а просто ты труслив, как… как Лукас, почтальон из сказки, которую ты читал в детстве! Дурацкая сказка, дурацкая, но тебя она характеризует, тебя и твою буржуазно-немецкую душонку! Уходи!
– Это плохой способ закончить разговор, Кэри, и я бы не хотел, чтобы мы попрощались именно таким образом…