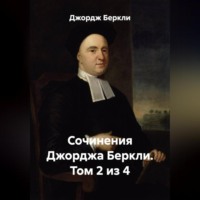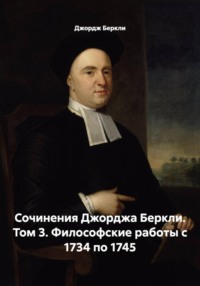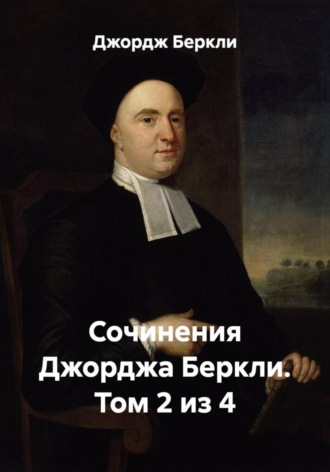
Полная версия
Сочинения Джорджа Беркли. Том 2 из 4
3. Те, кто всегда отстаивал существование материального мира, признавали, что Бог – это natura naturans [природа творящая]. Они считали, что божественное сохранение вещей равносильно их непрерывному воссозданию. Таким образом, сохранение и творение различаются лишь моментом начала.
Это общепринятые взгляды схоластов. Дуранд считал мир машиной, созданной и запущенной Богом, но затем работающей самостоятельно. Эта идея не получила широкого признания. Даже поэты, как и философские школы, учат нас, что «разум движет материей» (Вергилий, «Энеида», VI). Стоики и платоники также повсеместно придерживаются этой концепции.
Я не одинок в своих взглядах по этому вопросу, а лишь в способе их доказательства. Мне кажется, что сила и мудрость Бога одинаково ярко проявляются как в предположении, что Он действует непосредственно как вездесущий и бесконечно активный Дух, так и в предположении, что Он управляет миром через подчинённые причины.
Часы действительно могут идти независимо от своего создателя или искусного мастера, поскольку сила, приводящая в движение маятник, исходит извне, и мастер не является единственной причиной существования часов. Так что аналогия была бы неверной, если предполагать, что отношение часов к своему создателю тождественно отношению мира к его Творцу. Насколько я могу судить, нет никакого умаления совершенств Бога в том, чтобы сказать, что все вещи необходимо зависят от Него как от их Хранителя в той же мере, как и от Создателя, и что вся природа обратилась бы в ничто, если бы не поддерживалась и не сохранялась в бытии той же силой, что впервые создала её. Я уверен, что это согласуется со Священным Писанием, равно как и с трудами самых уважаемых философов; и если принять во внимание, что люди используют инструменты и машины, чтобы восполнить собственную слабость, то мы сочтем недостойным Божества приписывать Ему подобные нужды.
4. Что касается вины, то нет разницы, убиваю ли я человека своими руками или с помощью орудия; делаю ли я это сам или нанимаю убийцу. Следовательно, упрёк в адрес святости Бога одинаков, предполагаем ли мы, что наши ощущения производятся непосредственно Им или через посредство инструментов и вторичных причин, которые суть Его творения и движимы Его же законами. Следовательно, это богословское соображение можно отбросить как уводящее в сторону от сути вопроса; ибо таковыми я считаю все пункты, которые в равной степени применимы к обеим сторонам дискуссии. Трудности, касающиеся принципа моральных действий, исчезнут, если мы учтём, что вся вина заключена в воле и что наши идеи, из какой бы причины они ни производились, сами по себе одинаково инертны.
5. Что касается искусства и замысла в строении частей животных и т.д., я рассматривал этот вопрос в «Принципах человеческого знания» и, если не ошибаюсь, достаточно показал мудрость и пользу этого, рассматриваемого как знаки и средства информации.
Я, конечно, не удивлён, что при первом прочтении моих работ люди не бывают полностью убеждены. Напротив, я очень бы удивился, если бы предрассудки, укоренявшиеся годами, были бы искоренены за несколько часов чтения. У меня не было склонности утруждать мир большими томами. То, что я сделал, было скорее попыткой дать намёки мыслящим людям, у которых есть досуг и любознательность, чтобы дойти до сути вещей и проследить их в собственном уме. Двух- или трёхкратное прочтение этих небольших трактатов и использование их как повода для размышлений, полагаю, сделает всё привычным и лёгким для восприятия и снимет тот шокирующий эффект, который, как часто замечали, сопровождает умозрительные истины.
6. Я не вижу трудности в том, чтобы представить изменение состояния, вульгарно именуемое смертью, как с допущением материальной субстанции, так и без неё. Для этой цели достаточно, что мы допускаем чувственные тела, то есть те, что воспринимаются непосредственно зрением и осязанием; существование которых я настолько далёк от того, чтобы ставить под вопрос (в отличие от философов), что, как мне кажется, устанавливаю его на очевидных принципах.
Теперь кажется вполне возможным представить душу существующей в отдельном состоянии (то есть свободной от тех ограничений и законов движения и восприятия, которыми она стеснена здесь) и взаимодействующей с новыми идеями без вмешательства этих осязаемых вещей, которые мы называем телами. Даже вполне постижимо, как душа может иметь идеи цвета без глаза или звуков без уха.
И теперь, милостивый государь, я предоставляю эти намёки (набросанные мною наспех, едва лишь болезнь мне позволила) Вашему собственному, более зрелому размышлению, которое Вы в конечном счёте сочтёте наилучшим наставником. То, что Вы видели из моих трудов, было опубликовано в мои юные годы и, без сомнения, содержит множество недостатков. Ибо, хотя сами воззрения, полагаю, истинны, выразить их ясно и последовательно весьма трудно, ибо язык создан для общего употребления и обременён укоренившимися предрассудками. Посему я не претендую на то, что мои книги способны научить истине. Всё, на что я уповаю, – это что они могут послужить для пытливых умов поводом открыть истину самостоятельно, вникая в собственный разум и всматриваясь в свои собственные мысли. Что касается второй части моего трактата «О принципах человеческого знания», то я в ней значительно продвинулся; однако рукопись была утрачена около четырнадцати лет назад во время моего путешествия по Италии, и с тех пор у меня так и не нашлось досуга, чтобы взяться за столь неблагодарный труд, как вторичное изложение одной и той же темы.
Возражения, проходящие через Ваши руки, обладают полной силой и ясностью. Они мне даже больше нравятся. Это общение с человеком способностей и философского склада ума доставляет мне большое удовольствие. Я искренне желаю, чтобы мы были ближайшими соседями.
В то же время, всякий раз, когда Вы или Ваши друзья удостаиваете меня своими мыслями, Вы можете быть уверены в пунктуальном ответе с моей стороны. Прежде чем закончить, осмелюсь порекомендовать следующее:
1. Хорошо обдумать ответы, которые я уже дал в своих книгах на несколько возражений.
2. Обдумать, не основано ли какое-либо новое возражение, которое придёт на ум, на учении об абстрактных общих идеях.
3. Могут ли трудности, выдвигаемые против моей схемы, быть разрешены within the framework of the противоположной; ибо если нет, то ясно, что они не могут быть возражениями против моей.
Я не знаю, есть ли у Вас мой трактат «Принципы человеческого знания». Я намерен послать его Вам вместе с моим трактатом «De Motu». Моё почтительное служение Вашим друзьям, которым, как я понимаю, я обязан частью Вашего письма.
Я Ваш верный покорный слуга,
ДЖОРДЖ БЕРКЛИ.
Другое письмо, написанное после того, как Беркли прочно обосновался в своём новом доме, показывает, что требовались дальнейшие разъяснения, чтобы представить некоторые вещи в более полном и ясном свете.
Преподобный Сэр,
Ваше от 5 февраля попало в мои руки только вчера; и сегодня днём, получив известие, что шлюпка готова отплыть в сторону Вашего города, я не хотел упускать возможность ответить Вам, хотя и пишу в спешке.
1. Я не возражаю против того, чтобы называть Идеи в уме Бога архетипами наших. Но я возражаю против тех архетипов, которые философы предполагают реальными вещами, имеющими абсолютное рациональное существование, отличное от их восприятия каким бы то ни было умом; поскольку таково мнение всех материалистов, что идеальное существование в Божественном Уме – это одно, а реальное существование материальных вещей – другое.
2. Что касается Пространства, то у меня нет представления ни о каком ином, кроме относительного. Я знаю, что некоторые позднейшие философы приписывали протяжённость Богу – в частности, математики; один из них в трактате «De Spatio Reali» претендует на открытие пятнадцати несообщаемых атрибутов Бога в самом Пространстве. Но мне кажется, что, поскольку все эти атрибуты носят отрицательный характер, он с тем же успехом мог бы отыскать их в Ничто. И из того, что Пространство не подвержено воздействию, несотворенно, неделимо и т.д., с равным правом можно заключить, что оно есть Ничто, как и то, что оно есть Бог.
Сэр Исаак Ньютон постулирует абсолютное Пространство, отличное от относительного, и, как следствие, – абсолютное Движение, отличное от относительного. Как и все прочие математики, он допускает бесконечную делимость конечных частей этого абсолютного Пространства; он также полагает, что материальные тела пребывают в нём, словно дрейфуя. Признаю, сэр Исаак был человеком необыкновенным и глубочайшим математиком, но я не могу согласиться с ним в этих частностях. Я не испытываю никаких затруднений, используя слово «Пространство», как и все прочие слова общего употребления; но я не вкладываю в него смысл некоего отличного от всего абсолютного бытия. Для разъяснения моей мысли я отсылаю Вас к тому, что уже опубликовал.
Под «τό παν» я подразумеваю, что все вещи, прошлые и будущие, актуально присутствуют в уме Бога, и что в Нём нет ни изменения, ни вариации, ни последовательности. Последовательность идей я считаю самой сущностью Времени, а не просто его чувственной мерой, как полагают мистер Локк и другие. Но в этих вопросах каждый должен мыслить самостоятельно и высказывать то, к чему он пришёл.
Одним из моих самых ранних изысканий было исследование о Времени, которое привело меня к нескольким парадоксам; я не счёл уместным или необходимым публиковать их, в частности, ту мысль, что Воскресение следует в момент, непосредственно приходящий после смерти.
Наше замешательство и затруднения относительно Времени проистекают из следующего: (1) из предположения о наличии последовательности в Боге; (2) из убеждения, что у нас есть абстрактная идея Времени; (3) из допущения, что Время в одном уме должно измеряться последовательностью идей в другом; (4) из-за неучёта истинного назначения и цели слов, которые столь же часто служат выражению воли, сколь и понимания, будучи призваны скорее побуждать, влиять и направлять действие, нежели порождать ясные и отчётливые идеи.
3. В том, что душа человека столь же пассивна, сколь и активна, у меня нет сомнений. Представление об абстрактных общих идеях – это воззрение, которое мистер Локк разделял со схоластами и, полагаю, всеми прочими философами; оно проходит красной нитью через всю его книгу «Опыт о человеческом разумении». Он допускает абстрактную идею существования, исключающую восприятие и возможность быть воспринятым. Я не могу обнаружить у себя подобной идеи, и в этом заключается моё основание её отрицать. Декарт же исходит из иных принципов. Один квадратный фут снега так же бел, как и тысяча ярдов; одно-единственное восприятие в той же мере является восприятием, что и сто. Поскольку для существования достаточна любая степень восприятия, из этого не следует, что нечто существовало в одно время «больше», чем в другое, равно как мы не говорим, что тысяча ярдов снега «белее», чем один ярд. В конечном счёте, это сводится к словесному спору. Я полагаю, что значительной доли неясности и разногласий можно было бы избежать, внимательно изучив то, что я сказал об абстракции, а также об истинном смысле и значении слов в нескольких местах моих опубликованных работ, хотя об этом предмете можно сказать ещё многое.
Вы говорите, что согласны со мной, что в Вашем уме нет ничего, кроме Бога и других духов, с атрибутами или свойствами, им принадлежащими, и идеями, в них содержащимися.
Это – основной принцип или главный пункт, из которого, вкупе с изложенным мною об абстрактных идеях, можно вывести многое. Но даже если мы не будем сходиться во всех частных умозаключениях, то, пока главные положения установлены и хорошо поняты, я буду менее озабочен отдельными догадками. Мне бы хотелось, чтобы все мои работы, опубликованные на эти философские темы, были прочитаны в том порядке, в котором я их издавал: сначала – чтобы ухватить общий замысел и связь между ними, а затем – вторично, с критическим взглядом, добавляя по мере чтения Ваши собственные мысли и наблюдения к каждой части.
Я прилагаю к сему как переплетённые книги, так и одну в листах. Возьмите себе те из них, которых у Вас ещё нет. Убедительно прошу Вас передать «Принципы», «Теорию» и «Диалоги» – по одному экземпляру каждого – тому джентльмену из Нью-Хейвенского колледжа, который передавал мне через Вас свои приветствия; сопроводите переданные книги выражениями моего глубочайшего к нему почтения. Остальные же книги Вы можете раздать по своему усмотрению.
Если когда-нибудь судьба занесёт Вас в эти края, я буду рад пригласить Вас в мой дом на столько дней, сколько Вы сможете уделить. Четыре-пять дней живого общения помогут прояснить многие вещи лучше, чем месяцы переписки.
В то же время, я буду рад получать от Вас или Ваших друзей весточки в любое удобное для Вас время.
С уважением, Джордж Беркли
Прошу, дайте мне знать, стали бы они допускать сочинения Хукера и Чиллингворта в Библиотеку колледжа в Нью-Хейвене.
Когда Беркли находился на Род-Айленде, в Америке, в лице Джонатана Эдвардса из Нортгемптона, уже был свой выдающийся метафизик, о котором справедливо говорят, что он заложил основу её независимой литературы и не имел себе равных среди современников в силе тонкой аргументации. Менее известно, что в ранние годы он воспринял берклианские концепции идеальной реальности материального мира и чувственного символизма; хотя в интерпретации и применении принципов причинности и субстанции в своём знаменитом «Исследовании о свободе воли», появившемся в 1754 году, он стоит ближе к Коллинзу или Спинозе, чем к Беркли. Задолго до этого Эдвардс утверждал, что реальность чувственных данных зависит от воспринимающего ума, признавая при этом, что в конечном счёте они создаются и регулируются не человеческим восприятием, а Богом, действующим единообразно в Природе и в Человеке. «Мир, – заключает он, – является идеальным; закон возникновения и последовательность идей в чувственном опыте постоянны и регулярны. Если мы предположим, что мир является умственным в указанном смысле, натуральная философия никоим образом не затрагивается… Пространство – это лишь умственное понятие: „внутри“ и „снаружи“ суть ментальные концепции. Когда я говорю, что материальная вселенная существует только в уме, я имею в виду, что она абсолютно зависит от концепций ума для своего существования и не существует так, как существуют духи, чьё бытие не состоит и не зависит от концепций других умов… Бесконечно точная и определённая Божественная Идея вместе с соответствующей, совершенно точной, определённой и устойчивой Волей, обращённой к соответствующим сообщениям для сотворённых умов, составляет субстанцию всех тел». Концепция видимого мира, на которой строится аргумент в «Алкифроне», – концепция, основанная на открытии Беркли, что исходные данные зрения полностью отличны от данных осязания, – также была воспринята Эдвардсом, который доказывал, что ошибка коренится во всех непросвещённых общих предположениях относительно материального мира.
Род-Айленд, 24 марта 1730.
Эдвардс не называет Беркли. Не появляется сведений, что они когда-либо встречались или были каким-либо образом знакомы друг с другом; но совпадение их философских концепций интересно, как и совпадение между Беркли и Колльером. Во всяком случае, достойно записи, что Беркли готовил «Алкифрон» на Род-Айленде по соседству с таким симпатизирующим учеником, как Джонсон, и таким мощным союзником, как Джонатан Эдвардс.
Послесловие
Поскольку замысел Автора состоял в том, чтобы рассмотреть Вольнодумца в различных аспектах – как атеиста, распутника, фанатика, насмешника, критика, метафизика, фаталиста и скептика, – не следует, однако, воображать, будто каждая из этих характеристик подходит каждому отдельному Вольнодумцу; подразумевается лишь, что каждая из них согласуется с тем или иным представителем этой секты. Возможно, найдется читатель, который посчитает, что характеристика атеиста не подходит никому; но хотя часто говорилось, что спекулятивного атеиста не существует, мы должны признать, что есть несколько атеистов, которые притязают на спекулятивное знание. Автор знает, что это правда; и он вполне уверен, что один из самых известных писателей, выступавших против христианства в наше время, заявлял, что нашел доказательство против существования Бога.
И он не сомневается, что любой, кто потрудится ознакомиться – через общее общение, равно как и через книги, – с принципами и убеждениями наших современных Вольнодумцев, увидит слишком много причин быть убежденным, что ничто в последующих характеристиках не преувеличено по сравнению с реальной жизнью.
[Поскольку Автор не ограничился тем, чтобы писать исключительно против книг, он считает необходимым сделать это заявление. Посему не должно считаться, что авторы представлены ложно, если каждая мысль Алкифрона или Лисикла не обнаруживается в точности у них. Можно предположить, что джентльмен в частной беседе может выражаться яснее, чем другие пишут, развивать их намеки и делать выводы из их принципов.
Что бы они ни утверждали, мнение Автора таково, что все те, кто пишет – либо прямо, либо путем инсинуаций, – против достоинства, свободы и бессмертия Человеческой Души, постольку, поскольку они это делают, могут по справедливости считаться расшатывающими принципы морали и разрушающими средства сделать людей разумно добродетельными. От этой стороны следует многого опасаться в ущерб интересам добродетели. Насколько обоснованны опасения некоего уважаемого писателя, что дело добродетели, вероятно, пострадает меньше от ее остроумных противников, чем от ее нежных нянек, которые склонны задавить ее и замучить до смерти избытком заботы и лелеяния и сделать ее вещью меркантильной, говоря так много о ее награде, – это должен решить читатель.]
Что касается «Трактата о зрении», то почему Автор присоединил его к «Мелкому философу», станет ясно при прочтении Четвертого диалога.
СОДЕРЖАНИЕ.
ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ.
1. Введение.
2. Цель и стремления вольнодумцев.
3. Противодействие со стороны духовенства.
4. Свобода вольнодумства.
5. Дальнейшее изложение взглядов вольнодумцев.
6. Путь вольнодумца к атеизму.
7. Совместный обман священника и magistrata.
8. Метод вольнодумца в обращении в свою веру и совершении открытий.
9. Атеист как единственно свободный. Его восприятие естественного добра и зла.
10. Современные вольнодумцы более правильно именуются мелкими философами.
11. Мелкие философы, что это за люди и как они образованы.
12. Их численность, успехи и убеждения.
13. Сравнение с другими философами.
14. Какие вещи и понятия следует считать естественными.
15. Истина едина, несмотря на различие мнений.
16. Правило и мерило моральных истин.
ВТОРОЙ ДИАЛОГ.
1. Распространенное заблуждение – что порок вреден.
2. Польза пьянства, азартных игр и распутства.
3. Предрассудок против порока ослабевает.
4. Его полезность проиллюстрирована на примерах Калликла и Телесиллы.
5. Рассуждение Лисикла в защиту порока исследовано.
6. Неправильно наказывать действия, когда учения, из которых они вытекают, терпимы.
7. Рискованный эксперимент мелких философов.
8. Их учение о круговороте и революции.
9. Их понимание реформации.
10. Одних лишь богатств недостаточно для общественного блага.
11. Авторитет мелких философов: их предубеждение против религии.
12. Последствия роскоши: добродетель – не есть ли она нечто умозрительное?
13. Чувственное наслаждение.
14. Какого рода наслаждение наиболее естественно для человека.
15. Достоинство человеческой природы.
16. Наслаждение, понятое ошибочно.
17. Забавы, несчастья и трусость мелких философов.
18. Прожигатели жизни не умеют подсчитывать.
19. Способности и успехи мелких философов.
20. Счастливые последствия мелкой философии в отдельных примерах.
21. Их вольные взгляды на государственное управление.
22. Англия – подходящая почва для мелкой философии.
23. Политика и умение ее сторонников.
24. Заслуги мелких философов перед обществом.
25. Их взгляды и характер.
26. Их тяготение к папизму и рабству.
ТРЕТИЙ ДИАЛОГ.
1. Рассказ Алкифрона о чести.
2. Характер и поведение людей чести.
3. Чувство моральной красоты.
4. Honestum или τὸ Καλὸν древних.
5. Вкус к моральной красоте – верный ли это ориентир или правило?
6. Мелкие философы, восхищенные отвлеченной красотой добродетели.
7. Только их добродетель бескорыстна и героична.
8. Красота чувственных объектов: что она такое и как воспринимается.
9. Идея красоты, разъясненная на примере живописи и архитектуры.
10. Красота моральной системы, в чем она состоит.
11. Она предполагает Промысл (Божественное Провидение).
12. Влияние τὸ καλὸν и τὸ πρέπον.
13. Восторженность Кратила в сравнении с воззрениями Аристотеля.
14. Сравнение со стоическими принципами.
15. Мелкие философы, их талант к насмешкам и высмеиванию.
16. Мудрость тех, кто считает добродетель ее собственной наградой.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДИАЛОГ.
1. Предрассудки относительно Божества.
2. Правила, изложенные Алкифроном, которым следует следовать при доказательстве существования Бога.
3. Какого рода доказательства он ожидает.
4. Откуда мы заключаем о существовании других мыслящих индивидов.
5. Тот же метод, тем более, доказывает существование Бога.
6. Вторые мысли Алкифрона по этому поводу.
7. Бог говорит с людьми.
8. Как воспринимается расстояние посредством зрения.
9. Собственные объекты зрения не находятся на расстоянии.
10. Свет, тени и цвета, variously combined, образуют язык.
11. Значение этого языка постигается из опыта.
12. Бог объясняет Себя глазам людей посредством произвольного использования чувственных знаков.
13. Предрассудок и двойной облик мелкого философа.
14. Бог, присутствующий пред человечеством, в чувственной форме сообщает, увещевает и направляет его.
15. Удивительная природа и польза этого зрительного языка.
16. Мелкие философы согласны допустить Бога в определенных смыслах.
17. Мнение некоторых, полагающих, что знание и мудрость не свойственны Богу должным образом.
18. Опасная тенденция этого представления.
19. Его происхождение.
20. Мнение схоластов по этому поводу.
21. Схоластическое употребление терминов Аналогия и Аналогический разъяснено: аналогические совершенства Бога поняты неверно.
22. Бог разумен, мудр и благ в собственном смысле этих слов.
23. Возражение, основанное на моральном зле, рассмотрено.
24. Люди спорят против Божества, исходя из своих собственных недостатков.
25. Религиозное поклонение разумно и целесообразно.
ПЯТЫЙ ДИАЛОГ.
1. Мелкие философы присоединяются к общему крику и идут по следу других.
2. Поклонение, предписанное христианской религией, соответствует Богу и человеку.
3. Власть и влияние друидов.
4. Превосходство и полезность христианской религии.
5. Она облагораживает человечество и делает его счастливым.
6. Религия – это ни фанатизм, ни суеверие.
7. Врачи и лекарства для души.
8. Характер духовенства.
9. Не следует принижать естественную религию и человеческий разум.
10. Направленность и польза языческой религии.
11. Благие последствия христианства.
12. Англичане в сравнении с древними греками и римлянами.
13. Современная практика дуэлей.
14. Как формировался характер древних римлян.
15. Подлинные плоды Евангелия.
16. Войны и распри – не следствие христианской религии.
17. Гражданская ярость и резня в Греции и Риме.
18. Добродетель древних греков.
19. Споры полемизирующих богословов.
20. Тиранния, узурпация, софистика духовенства.
21. Университеты подвергнуты критике.
22. Божественные писания некоего современного критика.
23. Ученая образованность – следствие религии.
24. Варварство схоластики.
25. Кому обязаны возрождение учености и изящных искусств.
26. Предрассудки и неблагодарность мелких философов.
27. Их притязания и поведение непоследовательны.
28. Сравнение людей и животных в отношении к религии.
29. Христианство – единственное средство утверждения естественной религии.
30. Вольнодумцы заблуждаются насчет своих талантов; обладают сильным воображением.
31. Церковная десятина и земли.
32. Отличие людей от человеческих созданий.
33. Распределение человечества на птиц, зверей и рыб.
34. Довод в пользу разума допущен, но непорядочность осуждена.
35. Свобода – благо или проклятие, в зависимости от ее употребления.
36. «Козни духовенства» – не главное зло.