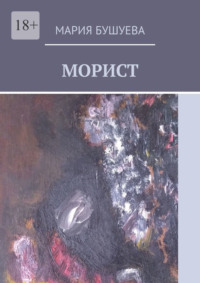Полная версия
Дачный сюжет. Роман
– Можно?
– Войдите?
– Это что же такое творится, Наталья Антоновна, не записывали к Вам, твердят – приходите завтра.
– Врач на соседнем участке болен – все ко мне. Как вы, Антонина Павловна?
– Ой, не спрашивайте!
– Должна я вас спрашивать.
Боже мой, забыть навсегда.
– Да, всё то же – и здесь вот…
Когда закрылась дверь за последним пациентом, она откинулась на спинку стула, достала сигарету, закурила. Белая, белая дверь. Белых пятен на глобусе. Вот привязалось. Белая, белая тварь. Это она.
М о ж н о л и т е п е р ь ж и т ь?!
А где Галя? Галя-то где? На столе банка с томатным соком. Вскрыть вены. Нет, слишком истерично. Я же сама отпустила её пораньше. Ничего не помню. Смерила себе давление: девяносто на шестьдесят. Опять закурила. Нет сил даже встать за пепельницей – пусть себе сыпется пепел в бумажку. Не сгорит. И так все уже сгорело. Как называют таких мужчин? Да. Подонки. Ее брат – подонок. Легче стало? Определение даёт успокоение. Назовешь болезнь – так вроде и вылечить можно. Врачебный самообман. Такой мальчик был в матросочке с синими глазами. Такая девочка была в вязаном костюмчике с детской сумочкой в руках. Такая жизнь была, бананы в магазинах. Бананы. Мать удрала. Отцу на все наплевать. Брат – подонок. Нет, лучше некоторых диагнозов не знать. Она…
Митя!
Вот и кончилось в с ё.
Митя – о, ужас! Митька-то выходил!!! Он же не знает, что оттолкнула, оттолкнула, всё-таки оттолкнула!
* * *
Если смотреть на Землю с высоты – Земля прекрасна. Издалека глядя на человека – не заметишь в нем недостатков. А если и заметишь, покажутся они его своеобразными достоинствами. Расстояние – необходимое условие для любви. Разлука с Россией пробуждала таланты. Оторванность от своих близких обостряет нежность. Так беседовал сам с собой Митя. И не совсем понимал, почему в разлуке с Риткой он её забывает, а чем чаще видит, тем сильнее привязывается. Все духовное усиливается разлукой, все плотское ослабляется. Он отошел от мольберта. Работа называлась «Луна, или Скудные радости бытия». Неплохо бы, кстати, сделать портрет отца. Митя задумался. В его зелёных глазах появилось то странное выражение, что так пугало порой его бабушку Юлию Николаевну: он смотрел сквозь… сквозь время, сквозь тебя, Рита, моя птичка, сквозь детей и грядущих внуков твоих, моя радость, сквозь собственное чувство к тебе…
Импульсивный и по-детски порывистый, Митя, однако, знал о себе многое – и о своей способности становиться точно бестелесным давным-давно догадывался. И, несмотря на все терзания сомневающегося рассудка, чувствовал он и то, что талантлив. Если на его холсте было яркое солнце, смотрящему невольно становилось жарко. Когда он делал портреты, ему не нужно было использовать фотографии – с фотографий писали некоторые члены их союза и даже, хуже того, со слайдов, спроецированных на холст, а самые продвинутые уже меняли проектор на компьютер.
Ему же достаточно было бросить точное цветовое пятно, а на бумагу – несколько мгновенных штрихов – и изображенный узнавался моментально, словно выхваченный из мглы вспышкой света. Наташа, увлекшаяся на одно время опытами по экстрасенсорике, подносила к его работам подвешенное на нити колечко: оно вращалось точно так, как над фотоснимками живых людей.
О своей судьбе, между тем, Митя никогда серьёзно не думал. Серьёзно – то есть сесть, взять тетрадь, составить план и прочая, прочая. Нет. Митя просто верил, что судьба – если жить, бессознательно подчиняясь глубинным ритмам жизни, – все расставит по местам. Рано или поздно, но обязательно в нужный миг спустится с неба то, что будет ему так необходимо. Он верил в удачу и не очень печалился, что местная организация художников почти отторгала его. Он нёс на себе печать легкого и как бы случайного, будто именно отпущенного ему свыше дарования, печать, неприемлемую ни там, где работа художника считалась делом государственным, вполне подвластным планированию и сознательным сверхзадачам, поставленным в ключе очередных деклараций, ни там, где она подчинялась только деньгам. В первом случае самой высокой оценкой таланта служили официальные премии, а во втором – бешеные гонорары. Митя не стремился к дружбе с представителями власти, как многие его собратья по кисти, хотя никакой ненависти к правящим кругам не испытывал. Его не влекло превращение в яростного «подпольщика», за которым с покровительственным одобрением следят зарубежные знатоки.
Всё, кроме искусства, было ему безразлично.
И к хоровому рёву толпы, восхищенному или негодующему, он был равнодушен.
О Митиной судьбе думала бабушка.
Она, кстати, совсем не умела рисовать, но прекрасно лепила. И не стала учиться ваянию по двум причинам – был страх, что с её происхождением высовываться в сталинское время опасно; но была причина и субъективная: слишком легко у неё все получалось, так легко, что, казалось, все так умеют, она даже некоторое время была убеждена, что дар её подобен умению ходить, говорить, есть, спать, и страшно удивилась, когда убедилась – большинство никакой такой способностью не обладают. Лепят в детстве. Играют в детстве – а разве её умение не игра? И дар заснул вместе со взрослением. Правда, куда-то тянуло её в молодости, она металась, рвалась, влюблялась, а, родив дочь, словно умерла. Она так и сказала Мите: «Я умерла в тридцать лет, родив твою мать. Жизнь женщины кончается вместе с рождением ребёнка. Меня не стало».
***
Себя называла Юлия Николаевна не бабушкой Мити, а кормилицей. Собственной кровью вспоила я тебя, собственной кровью вспоила я твою несчастную мать. Но я всегда знала, что судьба моя – похоронить мое ангельское дитя, мою крошку-дочь. Чёрный вихрь налетел и унёс, вырвав из земли, хрупкий цветок.
Он помнил, как мама подходила к его постельке. Или ему только снилось, как обволакивает его душистое облако, золотистое от света оранжевой люстры? Аромат волос, бой часов, жёлтый шелковый халат с долгими черными цветами, темно-синий голос, она часто пела ему – не из её ли глубокого голоса выросла потом его печаль и цикл юношеских рисунков, названный просто «Песни вечеров»?
Не плачь, малыш, не плач. Это во сне. И другой сон: ему, наверное, лет шесть, он идёт один по дороге в сумраке синем и ярком, точно в кино, и спрашивает всех – где моя мама? – а попадающиеся навстречу не отвечают, лишь отворачивают восковые лица…
Иногда, казалось бы, ни с того, ни с сего, Митя срывался, ссорился с бабушкой, бросал краски, кисти – и уходил из дома. Слава Богу, Анечка до страданий таких не дожила, кричала бабушка ему вслед. Возможно, он пытался вырваться из того образа, куда, как в железную клетку, неосознанно загоняла его страстная старуха. Рожденный счастливым, то есть тем, кто чувствует вечную и простую истину жизни даже в малой её ошибке, как угадывают судьбу по опечатке, повторяющейся на страницах несколько раз, он был природно чужд всякой искусственности и, пройдя в школьные годы через увлечение театром, перестал на спектакли ходить, зубной болью реагируя на привычную театральную фальшь и явную или маскирующуюся под новации заурядную пошлость. Тесно ему было и в образе оторванного от реальности не понимаемого никем дарования – хотя, и правда, мало кто мог точно понять и по достоинству оценить его работы. Пошлым казалось Мите то, что называлось привычно «драматичной судьбой художника», в которой обыватель желал обнаружить скандальную любовь, желательно с гибелью возлюбленной или возлюбленного, непризнанность, изгойство, эмиграцию, сумасшедший дом или тайную порочность
Драматизм творчества заключался для Мити только в одном: даже среди тех, кто искусством занимается, понимают в нём по-настоящему только единицы. И создают искусство редкие исключения, а всё остальное – имитация, истерия, претенциозное желание быть не таким, как все. Его, наоборот, тяготило, что к нему многие невольно относятся как к существу необычному, он хотел бы слиться со всеми, стать обыкновенным молодым парнем, нравящимся девушкам и не имеющим серьёзных проблем, но ему не удавалось это. Он не одевался «под художника», не отпускал обязательной бороды, не очень любил делать наброски в людных городских местах – всё, что хоть немного отдавало актерством, было неприятно ему.
Однажды и свои взрывы раздражения с уходом из дома он расценил как театрализацию. Но бабушка уже ждала гроз – и он опять взорвался, бросил на пол кисти, стукнул дверью… Конечно, такой внук ей понятен, думал он, болтаясь по аллее сквера, – сидит сейчас в кресле в слезах, а напротив гороховая тень. Раздражение его только усилилось. Все потускнело, посерело, как во время затмения – и змейкой скользнула по краю души мысль о самоубийстве. Он присел на скамейку и стал, прикрыв глаза, вглядываться в себя: змейка явно ползла извне, а не из глубины его собственного естества, она была ему чужой, и, мысленно приблизив ее к глазам, он так же в воображении обхватил её пальцами возле плоской ядовитой головы, с силой сдавил – и отбросил в траву.
Открыл глаза, поднялся, пошел по аллее – и вздрогнул: в траве лежало что-то похожее на змею. Наклонился – и засмеялся облегченно: детская игрушка, зеленый деревянный паровозик…
***
– Мы обязаны терпеть, Риточка, терпеть. Рядом с художником постоянно может находиться только жертвенная женщина. Только жертвенная.
Рита курила, бабушка иногда, тайно от Мити, покуривала вместе с ней.
Ритка привозила иногда старушке маленькие лакомства: то кусочек полузабытой ею севрюжки, то трюфельку… Потом ехала домой, готовила ужин, забирала из сада Кристинку, ссорилась с Лёней из-за бриллиантовых серёжек, сначала им ей подаренных, а после, без её ведома и согласия, перепроданных подороже, наконец, выполнив свой супружеский долг, усыпив дочку, постелив мужу, ложилась и сама.
Они спали с Лёней в разных комнатах, так, полагала она, острее его к ней сексуальное влечение, а секс – клей для семьи. Мужа потерять, откровенно говоря, Ритка страшно боялась. И вот одна, среди своих то ли «Людовиков», то ли «Медей» – она никак не могла запомнить импортное прозвище спальни, – с глянцевым журналом мод, лежала она и представляла, как родит от Мити сына, такого же удивительного, как он, такого же уникального, а Митя… С Митей вдруг что-нибудь случится – ой, не дай Бог! – и ей, ей придется заниматься его картинами, все поймут тогда, после его смерти – ой, о чем я думаю?! – какой он гениальный, будут организованы выставки, ей придется присутствовать на открытиях, давать интервью, а поездки… а телепередачи…
Как назвать сына?
Но – Лёня? А что – Лёня?
***
(Однако не то чтобы я такой добрый человек, нет, размышлял Митя, просто, наверное, я их люблю. А любить – это значит не разбивать иллюзии. А любить – это оправдывать ожидания.
А любить…)
* * *
Можно делать все то же: оправдывать ожидания и не разбивать иллюзии – по совсем отличной от любви причине, чем и занимался на протяжении последних лет Сергей.
– Старик, тебя где-то не было, я звонил, звонил, Антон Андреевич намекнул, что у тебя важные дела. Задание серьезное?
– Ты задаешь лишние вопросы. Понял? – Акцентировать «понял» как можно значительнее. И самое свежее пиво. И водочку в пиво. Эге!
Иногда Сергей навещал свою мать. Редко, конечно. Щупленькая женщина в очках. Выбрала замдиректора по административно-хозяйственной части. Завхоза, одним словом. Сейчас это звучит элегантно: коммерческий директор. С отцом бы ноги протянула. Ему же – лишь бы его не трогали. К внуку Кириллу вот порой какая-то нежность у него проглядывает. А так – не догадаешься, что и на уме. Да, наверное, картишки, выпивка и женщины. Ещё шмоняться на своей старой кастрюле обожает.
Сергей трезвый никогда за руль не сядет, но, выпив, куролесит на машине между сосен, еще и скорость такую разовьет – держись! Наташка сказала как-то: «Ты, Сергей, суицидант?» Эге! Мудреные слова! Самоубийца то есть потенциальный.
А! Вот как! Вот как! Визгливым своим голосом. Между сосен – бах! – между рыжих сосен – раз! Однажды Наташку с собой посадил – она побледнела, как… И вот тут пора уже дать себе ответ: как э т о с ним получилось. Ведь сестра. Или не задумываться? Подумаешь, поцелуйчики-обнимашки. Решил потренировать, а то какой-нибудь хлыщ засмеёт неопытную дуру. И всё равно как-то гадко… Есть ведь и объяснение: чёрная кровь. Она сильнее меня. Дед – отцу: наша кровь чёрная, а отец по цепочке, так сказать, – сыночку, Сергунчику. Семейное проклятие, одним словом. Мерзко. А я резвлюсь, болван. Сестра, да, сестра. Сестричка-невеличка. Кривенькие ножки, карие глазёнки. Ужас. Стыдно мне, стыдно, стыдно ли мне? Она, вроде, всё ж таки изловчилась и, сбросив меня, отпрыгнула? Ничего не помню, чёрт. Как гадко всё-таки, как противно. Какие еще есть определения, Сергей Антонович, подумайте, подумайте. Идиотство, одним словом.
Это всё вино, вино. Виноват.
Приснилось ей: около универсама бродит Сергей, пьяный, качается, вот-вот упадет, она стоит в стороне, наблюдает, он не видит её, качается, качается, как волна, и вот – упал. Она кинулась к нему – поднять, вдруг замечает Митю, стоящего в стороне, он красивый такой, лучше, чем в жизни, волосы светлее и ростом выше. И она почему-то остановилась, не стала подбегать к Сергею, а спряталась за киоск. Бабушка Клавдия Тимофеевна объяснила: пьяный снится – значит, виноват перед тобой.
Виноват? Наталья губы закусила, кивнула: да. А не подошла ты к нему, видно, не простила. Наталья отвернулась, чтобы скрыть подступающие слёзы. А вот что Митя твой такой во сне красивый – дурно, не случилось бы с ним чего.
Клавдия Тимофеевна из семьи многодетной, самая младшая, как в селе говорили, последыш, и дочь родила поздно, под сорок. Её старшие братья батрачили, мать одна их поднимала, потом, слава тебе господи, как-то мало-помалу все пристроились, один брат агрономом стал, двое – на заводе работали, старший завцехом, средний – технологом, война их скосила, сёстры замуж повыходили, и самой Клавдии Тимофеевне повезло: муж на железной дороге главным бухгалтером работал, небольшой, но начальник, и образование дочери дали – как-никак врач. И вот внученька, гордость ее старухина, тоже врач.
– А вон, детонька, со снами-то как: маме моей, прабабушке твоей, как-то приснилось: идёт она будто по полю босая вослед за парнем молодым, идёт да колоски-то и подбирает, много колосков – так старухи-то ей и объяснили: замуж за его выйдешь, жить будешь бедно, семья у вас будет многодетная, а его любовь и самого-то потеряешь: это потому что она во сне босая шла… Так-то оно и вышло.
У матери с отчимом большая квартира в центре, полногабаритная, обставленная дорого, со старинными вазами, антикварным фарфором и коврами, книг вот маловато. Не очень маман печалится о дочери, а что – бабка воспитала, бабка и квартирой обеспечит, ведь жизнь её уже к концу подошла. И о Сергее она сильно не пеклась. Прямо кукушка. Сергей, может быть, и чаще бы к ней захаживал, да отчима не переваривает. Такой жлоб. Всё в дом. Разве можно сравнить с отцом? Когда мать за отчима выходила, у того серая «Волга» была, сад, дом в деревне двухэтажный, хобби даже буржуйское – собирал антиквариат. Бабуська рассказывала – то он гаражи покупает и перепродает, то ягоды на рынок отвозит. А мамаша только и знала всегда, что по курортам шнырять – не уследишь! Изменяла она ему, наверное. И как все медики, легко себя оправдывала: необходимо для здоровья.
Наталья читала об астме, любопытные все-таки данные: астма как реакция на невозможность проявить свое «я» во всей полноте. Психогения. Так и у меня скоро будет астма, подумала с полуулыбкой. Бабуську забрала мать на две недели: уехали с отчимом отдыхать, а кто будет квартиру сторожить? Цепная собака – верная бабка. Разве мать такой должна быть?..
Астма, да. Сексуальный зажим – не мог товарищ Иванов реализовать свои сексуальные фантазии, тянуло его к чему-то необычному, в чём он не мог признаться себе. Наталья смеётся – и ойкает: в боку прострел. Острая боль – не печёночная ли колика? Ой. Невралгия, наверное.
..А там, на краю обрыва, стоит Сергей, бледный, бледный… Наталья встала, открыла форточку, достала сигарету. Обрыв мысли. Обрыв души. На краю обрыва оказалась я. Она курит. Не дым вдыхать нравится ей, а выдыхать из себя облачко. И замирать, погружаясь в него на несколько секунд, как в забвение, в крохотную смерть. Наталья не думает так, она так ощущает. Думает она чаще всего, как все, банальностями и говорит почти всегда, как большинство, штампами, не вслушиваясь в слова ни в свои, ни в чужие. Что-то смутное с детства владело ее душой, какая-то загадочная дымка окружала её, и сквозь дымку глядела она на мир. Все неживые предметы: и дома, и мебель, и старые ограды парков – точно живые откликались на её безмолвный зов, один дом – в дачном поселке ли, в городе ли её огромном – улыбался ей, другой хмурился и почти отворачивался, в одной квартире её любили зеркала, она казалась себе в них такой хорошенькой, не замечая ни острых ключиц, ни кривоватых ног, в другой квартире – делали её уродливой; были стулья, что ласково грели, как бабушкины колени, были и те, что сгоняли её со своих деревянных сидений…
Возможно, и сама Наталья была только полусказочной дымкой, принявший здесь, в реальности пыльной и яркой, форму обыкновенной девушки, похожей на своих ровесниц, девушки с небольшим комплексом неполноценности, следствием которого было обостренное самолюбие и недоверие к тому, что может она, с недостатками наружности, составляющими, кстати сказать, по мнению Мити её основную прелесть, нравиться мужчинам, и с чувством одиночества, ведь мать-кукушка не согрела её в детстве. Ранимая Наталья, впечатлительная Наталья, любящая, не осознавая этого совершенно, состояние небытия. Маленькое забвение сигаретного облака. Но не тем холодным сном могилы… Не знает о себе, не понимает – и вряд ли когда-нибудь до конца узнает и поймет. Так думает о себе – в третьем лице. Но Митя, для которого сестра, подобно другим людям, по его воле могла порой становиться прозрачной, любил, очень любил полусказочную, детскую дымку её души.
Она курит, вместе с дымом выдыхая суету жизни. Сейчас её нет.
***
И она вновь здесь. Потому что в дверь звонят, потому что кто-то пришел. И ей кажется, что пришел Митя. Ей хочется, чтобы это был он. С ним ей спокойно. С ним её несовершенное «я», недостроенное, как отцовская дача, мгновенно приобретает завершённость, достраивается по волшебному движению мага. И еще ей хочется, чтобы Митя по-отцовски начал ворчать, что она курит. Зачем ты куришь, Наташка, зачем? Отец-то никогда не разговаривал с ними, с детьми, как отец. Она открывает дверь: ба! Это в самом деле Митя. Но как неприятно все же – он не один.
– Проходите, проходите!
– Рита.
– Моя сестра Наталья.
Он улыбается. Но вдруг она вспоминает – а если он видел тогда!? Ужас. Но Митя гладит её по волосам, как ребенка, и уже ворчит: ты опять куришь, Талка, сколько раз я тебе говорил, ну зачем, зачем. И уже ревнует эта неприятная девица. Джинсовая стерва. Какая я все-таки плохая – еще не знаю человека, а так уже думаю. Просто ты, Наталья, ревнуешь своего брата к незнакомой Рите. Нет! Она, правда, очень вульгарна. Представить, что у брата будет такая, не могла я никогда!
– Хотите кофе? Или сухого?
– Я пью только коньяк!
– У меня есть немного.
В Наталье, в ее движениях, немного угловатых, в её русых волосах, она поправляет их рассеянно, в её карих глазах – прелесть запоздалого ожидания любви. Так размышляет Митя. Рите Наталья тоже приятна: Рита ощущает свою власть и над Митиным телом, и над его душой, и Наталья мила ей, как сестра принца, бессильная в своих родственных притязаниях на брата, мила пленившей его Золушке. Конечно, Митя – красивый, а Наташка так, симпатичная только, и сестра она только сводная – Юлия Николаевна Ритку давно просветила насчет всех Ярославцевых – то есть Наташка как бы менее знатная сестра принца, в ней нет той породы, которая есть в Мите. Худоваты они все, но порода есть порода.
– Муж мне подарил колечко с бриллиантом на восьмое марта, – рассказывает Ритка. Ее привычная тема в женском обществе. Да, я такая маленькая, про себя кумекает она, но удаленькая. А вы все – такие высокие да видные, а такие растяпы! Вот и Митя – мой! Здесь нет соперниц, но так, по привычке, на всякий пожарный. И квартирка обыкновенная, только ковер на полу красивый, большой, да две вазы китайских. Книг тоже немного – один книжный шкаф. Богатства, одним словом, нет. Впрочем, может быть, у мамаши? Кольцо на Наташе серебряное, серьги – тоже, Ритка западло считает такое носить, и Лёня ей не позволяет.
Слишком нежный брат он всё-таки! Как смотрит, как смотрит?.. Она разобьёт его дружбу с сестрой. Недаром давно слывет она черной кошкой! Стоило пробежать ей, глаза сузив, между двумя – и рушилось всё, расторгались помолвки, отчаявшиеся девки беременели от кого попало, а в результате оставались одни. Но и мужикам приходилось несладко! Разобьёт.
– Митя, я хочу познакомиться с вашим старшим братом. Чувствую – мы найдем с ним общий язык!
Как она вульгарна все-таки. Ну, Митя!
– Съездим на дачу, – предлагает он.
Господи, на дачу! Наталья опять пугается, краснеет – вдруг он видел? Но вновь спокойный его взор успокаивает её. Наверное, не видел. Не узнал. А если узнал, но молчит, оберегая её? Господи. Твоя мать страстно любила деньги, как-то осуждающе произнесла бабушка. Мужчин и деньги. Деньги сильнее. Вот и я – падшая её дочь. К деньгам, правда, равнодушна, как мы все. И Митя, и… Имя даже его отвратительно мне. Но я должна из последних сил преодолеть ужас, отвращение – всё преодолеть, я должна поехать. Должна преодолеть и поехать.
– Давайте в пятницу, – произносит она. Губы ее пересохли. Кофе вызывал жажду. Она встаёт, споткнувшись о ножку стола, идёт в кухню пить холодную воду.
– У меня муж улетает в пятницу, – возражает Рита, – лучше в субботу, до обеда.
Кристинку она сбагрит свекрови, а то уже растолстела от лени. Пусть узнает, как даются дети! Лёнька-то вырос на руках бабки с дедом. А свекровка только и знает, что на судьбу жаловаться. Толстобрюхая. Имя вот красивое: Дебора.
* * *
И вот они едут на электричке. Антон Андреевич порой подбрасывает детей до дачки на своей машине, но сегодня он куда-то потартал Серафиму. У Митяя, конечно, нет личного транспорта. Пыльная, темно-зеленая электричка. Ритка в итальянских босоножках, в яркой футболке и джинсовой юбке. Наташа в серой широкой юбке и светло-сером свитерке. Утром прохладно. Митя, прищурившись, разглядывает пассажиров. Рита поглядывает на него. Она порой чувствует себя белкой, пленившей тигра. Никогда не знаешь – чего от него ждать. Наталья смотрит в окно, она любит смотреть, смотреть, не вдумываясь, пожалуй, и не замечая, мимо чего электричка катит, постукивая, – то ли в полудрёму Наталья впадает, то ли погружается, как колеблющийся тонкий свет, на дно колодца души, где тайная есть дверца, за которой…
– Наталка, ты помидоры положила? Я привезла и ссыпала на кухонный столик? – . Воспитанная в грубой простоте, знающая в общении с мужем лишь четыре темы: кухня, деньги, секс, ребёнок, – Ритке так хочется и думать, и выражать свои мысли красиво: «Возлюбленный мой», – обращается она мысленно к Мите, не сводя с него пылающих глаз, «единственный царь души моей…». А Наталья бездумно глядит в окно. Покачивается вагон, покачиваются яркие пятна солнца на скамейках и на полу, покачиваются сетки на крючках возле окон, и жизнь Натальина покачивается плавно, точно золотая лодочка на реке, которую вот-вот минует электропоезд.
– Мама, кораблик! – кричит малыш и, вырвавшись из теплых материнских рук, приникает к окошку вагона. Пройдет время, и вырвется он навсегда из нежных ладоней, убежит, улетит, умчится к своему далёкому кораблю. Митя с улыбкой следит за малышом. Дети нравятся ему, как деревья, вода или облака. Он и сам, Митя, как облако – случайное сочетание частичек света – поэтичная бабушка его, Юлия Николаевна, думает Рита, обладает удивительным взглядом на мир: а Сергей – как вихрь, сказала Ритке она.
И Ритка замирает от непонятных предчувствий…
***
Сергей любит готовить: вечерами, напевая себе под нос слегка фальшиво какую-нибудь одну фразу из шлягера, он танцует над сковородками, кастрюлями и тарелками, и кто бы мог подумать: движения его перестают быть такими угловатыми и резкими: точно странная птица, метавшаяся только острыми зигзагами, вдруг обрела плавность полёта. Все Ярославцевы хорошо готовят, уверяет он. Это легенда, сочиненная, пожалуй, им самим. Наталья готовит редко, да, может быть, неплохо, однако, так редко, что уникальные её кулинарные достижения прочно забываются, как исчезают из памяти красивые случайно мелькнувшие лица в окнах соседнего троллейбуса, на минуту притормозившего рядом с везущим тебя автобусом возле светофора. Разумеется, Митя не занимался кухней совсем.