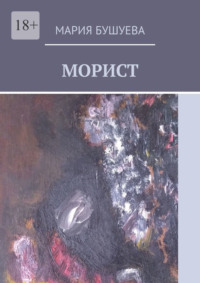Полная версия
Дачный сюжет. Роман
Она возвращалась в свою жизнь.
* * *
Уже наступила ночь, а Сергей не спал. Он пинком уторкал в постель Кирилла, чтобы тот не мешал, стаскался за симпо-лимпотюлечкой, но ему проворчали: уехала в город; потом все-таки купил возле закрывшегося магазина у грузчиков бутылку, и сейчас один, под низкий шум сосен пил, проклиная свой характер, свою супругу Томку в томатном соусе, отца, научившего таскаться за бабами, ощущая затягивающий вкус женского естества. Он не думал о сестре. Приказал себе, когда они уехали, не думать больше никогда. Не существует никакой сестры. Разбежались ведь родители, могли и дети их совсем не сближаться, так нет – интеллигентские замашки бабушки: Елена Андреевна дружбу детей поощрила. Окончила Елена Андреевна когда-то, в легендарные дореволюционные времена, классическую гимназию, одержима была, как многие девушки из приличных семей, идеей спасения народа – все они тогда решили «просвещать честныя умы» – так и Леночка в своем дневнике записала. Сергей перелистал его как-то с тщеславным удовлетворением – не у всякого такая бабка! – но без особого интереса к содержанию Леночкиной души. Ну, революция – ну, романтика. Какая глупость. Есть сказочка про вершки и корешки. Там кто-то кого-то надул – а здесь срезали вершки и выкорчевали корешки. Новые растения посадили. Вот дед был именно новым побегом. Чутье – как у зверя. В тридцатые крутился, меняя работы, места жительства. Сергей давно понимает все. Это они – его родственнички – наивные простаки. Митька на десять лет его моложе. Другое поколение. Елене Андреевне уже семьдесят с лишком было, когда Митька родился. И Сергей, между прочим, только один по-настоящему бабушку Елену Андреевну любил и ни с кем делить её не собирался. Даже с обожаемым братцем. Что-то в нём есть всё-таки удивительное: он как будто не вырос в нашей системе, она не коснулась его. «Я прошел сквозь». То ли пошутил, то ли серьезно. Вечная манера Ярославцевых. Похож, похож Митька на отца. Только черты лица покрупнее, позначительнее. Но вряд ли может бабулькам нравиться – не от мира сего. Приложение к кисточке. Кисочки таких не любят. Он пьет в одиночестве. Ночные шорохи, всхлипы ночных птиц, чьи-то далекие крадущиеся шаги не тревожат его. Он сильный, смелый, могучий, у него за спиной сложены мускулистые крылья. Жаль, что не удалось приволочь кукушечку, покуковали бы вместе под шорохи и всхлипы, полетали над кустами, над сплетенными телами, всю бы жизнь свою прокуковали. Эге! Он успел урвать телефон Ритуленьки. Приедет в город – сразу позвонит. Маленькая хищная птичка. С загнутым клювиком. Он ей покажет круги ястреба, зазвенит сухая трава… А глаза у неё, кажется, голубые… Мы на лодочке катались… Отражения в воде.
Такой я лентяй, а даже английский выучил в институте, чтобы Кама сутру прочитать. Мы все, мы все – похотливые коты и ленивые скоты. Сорок лет дачке – никто второго этажа не достроит. А вот возьму и сделаю! А что?! Вот тогда пусть отец попробует сказать: дачу всем.
Как бы не так. Я строил, мне дача!
Шумят сосны, шумят, ровно, постоянно, это сплошным потоком идут летающие тарелки. Идёт, гудёт зеленый шум. А, может быть, они проносятся над Землей совершенно бесшумно? Ты их видел? Я не видел, но шеф говорит, а раз шеф говорит, ну, раз сам шеф говорит…
– Ты что не спишь, полуночник? – Чёрт возьми, так и окочуриться можно… Не услышал шагов. – Ты, что ли, дядь Миша?
– Угу.
– Садись, выпей со мной.
– Наливай! – Вон как повеселел доцент на пенсии. Старый приятель отца. Как родные мы с ним, ей-богу.
– Уехали твои?
– Эге!
– Ты бы, Серёга, о даче-то серьезно подумал. – Это надо же – угадал старый хрыч мои мысли! – Ведь у тебя сын, год, другой, третий…
– …четвёртый, пятый…
– …женится он, а там появятся у тебя внуки…
Кошка бесцветная прошмыгнула в калитку, бесшумно прокралась на веранду, села прямо перед столом.
– Дай ей что-нибудь, дядь Миша.
– Не поощряй тварь алчную, – это у него такой философичный юмор, – ешь, существо жалкое, ничтожное.
Сергей кидает кошке со стола колбасы. Она быстро жует. И через минуту вновь сидит неподвижно, устремив на пьющих свои болотные огоньки. Пролетел самолет. Красные точки пронеслись меж звездами и скрылись. Возможно, в Париж. Ты погляди – вокруг тебя тайга – а-а-а. Плевал я на Париж.
И кошка вдруг встрепенулась, потрясла одной лапой, потом подняла другую, сделала нервный шажок, потрясла лапой второй – и вытянулась в напряженной готовности.
– Мышь учуяла, а?
– Эге!
* * *
Антон Андреевич проснулся, как всегда, рано. Серафима еще сопела вовсю, раскинув руки на подушке, как упавший на брюхо самолет. Лётчиком мог бы стать Антон Андреевич, но вот не стал. И в театральной студии он занимался, даже способности у него находили – бросил: не в его это характере кому-то подчиняться. Тяжело. А Серафима, между тем, обожает театр и сама громко декламирует стихи. Ещё они по вечерам поют с Мурой дуэтом: «Отвори потихоньку калитку и войди в темный сад ты, как тень».
– Кстати, ты, Антон, зачем сад передал Томке, она оттяпает у тебя его, как миленькая, непрактичный ты человек!
Не облагораживает тебя пение, железная моя Серафима. Все, кстати, считают Антона Андреевича непрактичным. Первая жена потому и ушла. И теща вечно гнусила. Ныла и вторая, но поделикатнее, больше использовала тонкие намёки. А не подскажете ли вы, Антон, сколько сейчас в магазине неплохая горжетка? А золотые часы? Однако никто в нём ничего не понимает: у Антона Андреевича свой практицизм – практицизм отсутствия частной собственности. Томка в саду? Хорошо – хлопот меньше. Сергей заикнулся, что дачку отремонтирует – Бог в помощь. Да, я плохой отец, зато кофе хорош, какой ароматный парок над белой чашкой с синим цветком, и что, собственно говоря, с меня взять – уж такой я есть. Мне самому ничего не нужно, но и от меня настоятельно прошу ничего не требовать.
«Не забудь потемне-е-е-е накидку, кружева на голоо- овку надень», – тянул вчера своим тенорком толстый Мура.
– Не поженить ли нам Муру и Наталью, а что? – вдруг после сытного ужина, приготовленного, кстати, именно умелым Мурой, заквохтала Серафима. – Мура – видный мужик, все-таки не с улицы, кандидат наук, а пивом торгует, так ты же, Антон, знаешь: его съели враги, и твоя Наталья – врач, ценная профессия в её руках, будут жить душа в душу, и глядишь, Мурочке повезет, и Наталье повезет, разумеется, не то что была его первая, стерва современная, измучила, скажу тебе по секрету, Муру сексом, а он болезненный был в детстве, так она, конечно, хвостом крутила: ты меня не удовлетворяешь – и бросила Муру, а как он страдал, ай-ай, как томился.
Через день Мура всё выслушивает молча. Он округл, мелкокудряв, с бесцветными глубоко упрятанными кнопочками глаз – Антон Андреевич впервые разглядывает сына гражданской супруги внимательно, – и ротик у него кудрявый, выглядывающий из серо-рыжих зарослей аленький цветочек.
В общем, непонятно, как можно от этого всего открутиться. Дело её, говорит Антон Андрееевич вяло. Мне что. И верно, ему-то что – ну, Мура, Антон Андреевич все же слегка тщеславен, не честолюбив, а именно тщеславен, – кто муж у Вашей дочери? Торговец пивом. Так, конечно, не каждому ответишь. А ведь можно сказать: кандидат наук. Какие-то трудности в институте. Временно подрабатывает в другом месте. Он морщится. Но ты, Серафима, уж сама это устраивай, ты же знаешь, я в таких делах ничего не понимаю. Устранился то есть. Как всегда.
Кофе он пьёт крепкий. Курит папиросы. Больше любит сигареты, забыл с вечера купить. Где-то есть у Муры, но где. Так припрячет, Нат Пинкертон не отыщет. Куда, кстати, Сергей подевал старые книги, дореволюционные ещё? Неужели уже книги продает? Да нет, не может быть. Он так, не пьёт – выпивает, балуется для удовольствия.
А Серафима спит и видит сны. Офелии и в самом деле лучше было утопиться, явно превратилась бы в Серафиму. У Антона Андреевича есть маленький секрет: он пописывал стихи. Несколько под Киплинга. Одним словом, он тайный романтик. Но о том не догадывается ни одна живая душа: стеснителен Антон Андреевич. Никто его не понимает, никто не знает, что за смуглыми шторами его лица происходят удивительные вещи: открываются острова и закрываются жаркие очи! Только бы Антона Андреевича не трогали, только бы не мешали ему представлять. Слаб я духом, стыдно мне за свой малоактивный характер, мужчина, конечно же, должен быть совсем другим: он обязан делать карьеру, добывать деньги, сидеть в президиуме, ездить за рубеж, не дай Бог, кто-нибудь заподозрит, что мне хорошо с самим собой. Я и сам не хочу ничего о себе знать. Я такой же, как все. Я не другой. Оставайтесь там, наверху, а моя скромная работа – туннели. Президиуму предпочитает Антон Андреевич берег реки: вода, переливаясь, течёт из прошлого в будущее, в ресницах твоих, дорогая, горит огонёк костерка, пусть течет, пусть смывает вода всю эту суету жизни, как хорошо нам с тобой на голубом островке, ты в душе моей, разве тебе, плещущейся в сетях моей тайны, хочется горькой свободы?.. А вместо денег любит Антон Андреевич грибы собирать, много секретов у грибника, все проторенными ходят тропинками, он же выбирает свою дорогу, гриб он узнает по тонкому запаху издалека: здравствуй, приятель, заждался меня, вот лопухи, не заметить тебя, вот растяпы. Заграничным поездкам, погоне за вещицами и за престижем предпочитает Антон Андреевич путешествие в собственной старой машине по летним горячим дорогам: так пусто в душе, так светло, что пролетает сквозь неё листва, проезжают встречные машины, пробегает симпатичная женщина в голубом платочке и светлом платье, и сын Митя проходит её, как будто просторную комнату, и выходит на улицу один…
Он допивает кофе. Он доволен: он здорово от всех замаскировался, никто не догадается, что он такой… чудак. Неприятно, конечно, но так – я чудак. Докуривает папиросу, глядит в окно: что-то там, за окнами соседнего дома, происходит сейчас. И вдруг вспоминает, что полное имя Муры тоже Дмитрий. Надо же. Чего только не бывает в жизни!
***
Наталья дома у себя тоже пила кофе, зевала, красила ресницы, мазалась тональным кремом, натягивала узкое платье и собралась, наконец, выходить, когда позвонила Ритка.
– Мне очень-очень нужно с тобой поговорить. Я зайду к тебе на работу прямо сейчас?
– Конечно, – она несколько удивилась, – случилось что-то?
– Видишь ли, Митя пропал. Странно, думала она, торопясь в поликлинику, когда он мог успеть пропасть? Вечером расстались на вокзале, он поехал провожать Ритку. Ничего не понимаю.
* * *
Утренний город любила она. Нравилась ей дорога от дома до работы. Мимо Управления железной дороги, построенного в тридцатых годах серого крупного здания, обвитого сплошными ремнями блестящих окон, мимо ЦУМа с оранжевыми девушками-манекенами, мимо какой-то типографии, она за несколько лет так и не удосужилась прочитать вывеску – тоже черта всех Ярославцевых – но вдыхала запах краски и даже приостанавливалась чуть-чуть, чтобы заглянуть в приоткрытое полуподвальное окно, за которым гудели машины и мальчик в сером фартуке иногда, подойдя к окну близко, знакомо поглядывал на неё, а может, и не на нее, а на её прабабушку-гимназистку, бегущую по дореволюционному Петербургу, и через магистраль, постояв у светофора, через старую аллею, мимо скамейки, где уже выпивает какой-то бывший интеллигент, приставив к выцветшим брючишкам оборванный древний портфель из натуральной кожи – наверное, лет двадцать пять назад он носил в этом бывалом товарище черновик своей кандидатской диссертации, а сейчас там болтаются батон хлеба, плавленый сырок и облитая красным портвейном брошюра «Тотем и табу», отпечатанная еще в пору его студенчества, – мимо другой скамейки с сидящими на ней громкоголосыми студентами, и мимо той, где всегда с утра старушка в синем берете и черном пальто кормит хлебом воркующих голубей…
И вот и поликлиника. Сейчас начнется вновь та серьезная игра, нравящаяся ей с детства, – в доктора и больного.
Здравствуйте, Наталья Антоновна. Проходите, проходите. Ну как? Горло лучше? Лучше, спасибо. Но насморк. Это ничего, санорином только не увлекайтесь.
Мягче действует пиносол. Беспокоит ещё, что после семи вечера поднимается температура. И сколько? Тридцать семь – тридцать семь и одна. Субфебрильная, так. Вот-вот. Знаете, пожалуй, отправлю-ка я вас на флюорографию, ничего в лёгких не прослушивается, но, может быть, прикорневая… У меня была два года назад. Я помню, помню. Вот направление. И приходите в четверг. Спасибо. Выздоравливайте.
Или: здравствуйте, доктор. Добрый день. Доктор, вы не поверите, два дня страдал, приступ за приступом. Сегодня не смог пойти на работу, печень, видимо. Выпишите больничный, умоляю. Раннее утро. Понедельник. Алкоголизм. Беседы врача. Телевизионные оздоровительные программы. Гипноз. Всё ерунда. Выпив, я – щуплый субъект с улицы Луначарского – становлюсь всемогущим. Никакие беседы врача мне никогда не помогут. И гипноз не пробьет. Выпью, ребята, мне охота летать! Я, как ракета, залью горючее и поднимаюсь, гудя, выплёвывая вихри огня, сначала над своей супругой, Агафьей Тихоновной, а может, и Таней Лариной, да, да! – сделаю над ней, землей моей родимой, кружок-другой и перескочу на другую орбиту, кукиш сложу над соседом из квартиры напротив, бравым майором, и дальше, выше – и вот уже, растопырив крылья с жёлтыми ногтями, кружу я торжественно, как гимн, над луной лысины начальника своего, Петра Николаевича Шумилова, и величаво плюю на него сверху, и пускаю симфоническую струю на его малиновое авто.
Где же Ритка, меж тем думает худенькая женщина-врач. Почти девушка. О, дайте, дайте мне больничный. Такая худенькая, но все равно очень симпатичная. Дай, ну дай. Есть ещё люди, радуется пациент, выползая на воздух, есть ещё женщины в наших поликлиниках, они выписывают нам, страдальцам, по понедельникам больничные листы.
И всё-таки, где же Ритка?
А вот и старушки поспешили, как мушки, на белый сахар её халата. Она жалеет старушек. Им одиноко. Но не одиночество их и не коммунальные их страдания вызывают у Натальи особое сочувствие, а давняя своя догадка, что под пергаментными лицами и седыми пучочками скрываются юные души, восторженные и жаждущие любви! Они именно здесь, в кабинете поликлиники, собирают тоненькими хоботками тот нектар тепла, без которого высохнут окончательно прозрачные стенки их сосудов, сморщатся сгоревшей бумагой их сердца и в углах старых комнат отыщет их зима, чтобы смести, смести, смести…
Где же все-таки Ритка? Вот шебутная, позвонила и исчезла. Господи, только бы он не попал под машину – такой рассеянный. Нет, какой же он рассеянный?! Наоборот, самые мелкие детали замечает, мышь прошмыгнет – сразу уловит. Это она с той самой Бассейной. Могло быть: шёл, задумался, скорее даже засмотрелся: какой интенсивный желтый! – и откуда ни возьмись машина. Глупости, не надо притягивать негатив. Напугаешь себя. И… Пойду-ка позвоню. Да, вот позвонишь – старую бабку его всполошишь. Ой, ну Ритка!
Заглянула медсестричка. Позвала к телефону. Наталья так спешила по коридору, что чуть не сбила какую-то пожилую матрону, объемней Натальи раза в четыре. Как она разоралась! Врачи еще называются, никакого внимания к людям, больные пришли, а они носятся точно кони! Безобразие!
Не Ритка звонила – Мура. Наталья так удивилась, что сразу заговорила быстро-быстро: а, Мура, здравствуй, ну как ты, у меня столько пациентов. Пока не сообразила: Мура звонит зачем-то. Остановила поток слов. Покашляла в трубку. Пригласил её в гости вечером. Она хотела сразу отказаться, но что-то в голосе его насторожило. Больно тихо он говорил, просительно, и голос то ли подрагивал, то ли в телефонном аппарате помехи.
Никогда она не может отказать. Мягкая. Самой противно. Как тесто. Как пластилин. Она положила трубку, пошла понуро. Тётка продолжала возмущаться. К ней подключились другие – и уже скандал метался от стены к стене, норовя умчаться дальше и захватить весь коридор.
– Наталья Антоновна, опять вас! – её окликнули из регистратуры. Медсестры относились к ней с симпатией: не зазнаётся и на психику дисциплиной не давит. Доброжелательная, одним словом. Звонила на этот раз всё-таки Ритка. Всё нормально, она не придет, Митя нашёлся, привет.
– Привет, – она уронила на место трубку. Стояла молча и глядела, не видя, перед собой.
– Да что творится! Вы только посмотрите, посмотрите!
Крик вывел ее из задумчивости. Она с любопытством перевела взгляд и обнаружила рядом электрическую брюнетку, трясущую больничной карточкой. Регистраторши в белых колпаках и медсестричка, та, что позвала Наталью к телефону, обернули к негодующей свои невозмутимые лица.
– Что пишет врач: в горле слизистые чистые, миндалины не увеличены!
– Ну, так что? – вяло поинтересовалась медсестричка.
– Что такого?
– Все правильно, – закивали точно в немом кино регистраторши.
– А то такого – у меня миндалины удалили в тринадцать лет!!!
Наталья отвернулась и молча захохотала. Она поспешно сделала вид, что ищет чью-то поликлиническую карту среди разноцветных корешков, выстроившихся на полках. И когда крикливая пациентка ушла, медсестра Галя тоже просто покатилась со смеху. Они весело смеялись вдвоем. А белолицые регистраторши глядели на них строго, даже осуждающе глядели эти застывшие девы в накрахмаленных колпаках.
* * *
С Митей ничего особенного не произошло. Это слабые женщины, Юлия Николаевна и Ритуля, видели за каждым углом несущийся на него грузовик. Ритка и сестру заразила своим сумасшествием. Конечно, бабушка уже была один раз напугана судьбой, но сумела выстоять, выдержать и даже обратить свою страшную потерю в перевернутую боярскую шапку, куда полетели монеты сочувствия и жалости к бедной старухе. Юлия Николаевна любила читать пьесы. И жертвенная её любовь к внуку порой превращалась в королевский флаг, под которым выступала израненная флотилия. Пожалуй, Митина интуиция проникала часто слишком глубоко, и если бы не его доброе сердце, если бы не его доброе сердце, девочка моя, я бы его боялась! Сердце у него мягкое и нежное. Иногда он, бывает, взорвётся, но уже через час, покаянный, виноватый, жалостливый, приникает к моим старым ладоням. Он во всём и со всеми такой. Как-то одного старого бездаря, увенчанного лаврами, знакомого мне по моей журналистской работе, пожалел, ходил к нему, терпеливо выслушивал его бессмысленный, напыщенный бред, чтобы, когда старец, растаяв, уже готов был раскрыть объятия и написать рекомендацию ему в союз, с мастерской помочь, на выставку протолкнуть, взять да и выпалить ему правду-матку. И потом как он мучился, и ведь не тем, чудак, что так всё у него плохо клеится, а что старика обидел. Вот ведь он какой, наш Митя.
Юлия Николаевна перелистывала свой блокнот: сейчас я тебе найду, девочка, слова одного польского писателя, нет, кажется, жены писателя о нём, точно не скажу, но удивительно они подходят к Мите, так, так, вот тоже интересные выписки сделала из какой-то рукописи, он приносил, читал, а я за ним, о цветах: голубой – цвет правды, связан с религией, развивает чувствительность к музыке, успокаивает нервную систему, вылечивает лёгкие и благотворно действует на глаза. Интересно? Что вы, очень интересно. А фиолетовый, оказывается, мистический цвет. А вот ещё: если тебе вдруг станет страшно, ты в темноте идёшь, обратись к свету, попроси свет сопровождать тебя, защитить тебя… Нашла: «Творческая его природа, требующая всего нового, постоянных метаморфоз, странствий души и привязанности только к одному листу бумаги, вступала в неразрешимое противоречие с нежностью, которую, точно стеклодув, вдунула его мать в него, наделив его хрупкой, утонченной формой и слишком большой душой».
Как-то сказала я ему: ведь, наверное, хочется тебе, Митенька, уехать из нашего города, уезжай, ничего со мной, старухой, не случится, помогут добрые люди, и молока принесут, и хлеба кусок найдется!
…И, как ребенок, взглянула на меня такими беспомощными, наивными глазами. Ты присмотрись, присмотрись, Рита, у бабушки глаза пятилетней девочки.
– А в людях он, девочка моя, не разбирается совершенно.
Ощущал себя постоянным притворщиком: проходит сквозь них, но маскируется. Неловко ему выказывать, что он в них обнаруживает, под всеми их благожелательными улыбками и самоиллюзиями. Иногда злился на себя – не за что их всех жалеть, страдают-то они чаще всего из-за собственного тщеславия, из-за не взятых честолюбивых вершин, из-за того, что заглядывают завистливо за соседский забор. Жалеть?! Только за скудость. За бедность. За ничтожность. Дух мой не любит людей, как-то сказал он Ритке, но душа прощает и обнимает всех сирых мира сего.
Возможно, все душевные порывы предков Митиных, священников-миссионеров, сконцентрировались в нём, только помни, Рита, что свет, сконцентрировавшись в линзе, способен прожигать.
Если я прожигал – и обжигал – и сжигал – вины моей не было в этом. Так зачем же виню себя?..
Уверенный, что бабушка будет спокойно спать, считая, что внук на даче, и подзабыв о ри-ри, что означало ритуальный Ритин вечерний звонок (она всегда проверяла, на месте ли её принц), встретив случайно, возле собственного дома бывшую свою приятельницу, узенькую кареглазую Альмиру, он отправился к ней и провел у нее ночь.
«Вода на поверхности искрится, переливается, кажется легкомысленно-игривой, но глубина её способна и притянуть, и отпугнуть робких пловцов. И небо вроде вот оно, рядом, с беспечными кудряшками белых облачков, с желтым солнышком, точно из детского мультфильма, но всё выше, всё выше поднимается самолет, а нет небу конца, за облачными кудряшками снежные холмы, а дальше огромные поющие пространства, величественное безмолвие…»
Юлия Николаевна отложила книгу и задумалась.
***
Альмиру любил он год, он любил в ней свой образ Азии – её орнаменты и тонкие запястья, её шелковые ресницы, прикрывающие осторожные зрачки, её горловой крик несущегося наездника, её навязчивые пряные мелодии и то страстное зло, которое угадывалось под вежливо-сладкими улыбками и плавными движениями. Он звал Альмиру просто Азиаткой. Она была для него линией, красками, пластикой Азии. Он рисовал её очень много – и много любил. Он никогда ни к кому не возвращался, и, возможно, провел с ней нынешнюю ночь, только чтобы вспомнить запахи и цвета Азии своей души – так вспоминается что-то во сне, уже к полудню следующего дня полностью стираясь из памяти. И утром он шел к мольберту, чтобы не потерять мелодию линий, изогнутых, смуглых: музыкальные зигзаги в пору их страсти рисовались им на всех листочках совершенно автоматически. Наброски его, кстати, Инесса и её приятели сравнивали с рисунками Пикассо и графикой Анатолия Зверева. К сожалению, и тогда он уже понимал, что Альмира для него – лишь разложимый на линии и краски символ, через узкое горлышко которого пил он древний и душный дух Азии, чтобы, захмелев, превращать его в наркотические образы на полотне. Чувственности обычной Альмира в нём не пробуждала. И она женским чутьем, видимо, улавливала это и однажды призналась в своём непонятном страхе: что-то будто в тебе не совсем человеческое, сказала шёпотом, будто мы не в постели, а в Космосе…
Чувственно влекла его, как ни странно, Ритка. И если и рисовал он её, работы его были или открыто, или чуть завуалированно эротичны.
Может быть, он забыл намеренно о вечернем обязательном звонке? Любят все Ярославцевы немного подразнить, так – для придания жизни некоторой остроты.
Ритка готова была его убить!
Не забавно ли? Милая дуришка. Контролировать его каждый шаг – это, пожалуй, слишком. Достаточно ему пристального Циклопа – его старой кормилицы.
Но уже было жаль её, и он тут же приехал к ней на работу – Ритка заведовала культработой клуба. Они пошли в парк, она курила и язвила насчёт его распутного образа жизни. Он весело лгал, что был у приятеля. Если в творчестве он шёл, пожалуй, одной из самых трудных дорог, то в общении предпочитал пути наименьшего сопротивления.
Мимо катали свои разноцветные коляски молодые мамы, шли старушки с палочками, бежали, выкрикивая что-то и хохоча, дети, на Ритино лицо падала тень от ветки, делая её похожей на даму со старинного полотна, а ветер нёс пепел от её сигареты обратно и ссыпал на Митины джинсы…
У нас будет вот такой малыш, думала она, когда мимо проплывала очередная коляска, побегает он тогда у меня, ещё посмотрим, кто будет бегать – я за ним или он за мной.
А его завораживала тень от листьев – и он, наклоняясь, целовал Ритке висок. Он всегда желал и жалел её, такую маленькую и смешную! Она не очень мешала ему: стремление поймать его в клетку было подобно усилию лилипутихи, пытающейся связать Гулливера. Однако ты недооцениваешь моей хитрости, думала она, силой не смогу одолеть, хитростью опутаю моего великана. Но ни о каких её хитрых планах он совершенно не тревожился. Часто мысленно он сажал её на ладонь и улыбался: какая хорошенькая девочка, просто чудо. А порой, чтобы девочку сильно не запугать, он тоже превращался на время в Мальчика-с-пальчика, поскольку, сам тому удивляясь, умел становиться то огромным, то необычно маленьким. В его удивлении была всё-таки доля небольшого мужского нарциссизма – нравился он себе иногда, чёрт возьми!