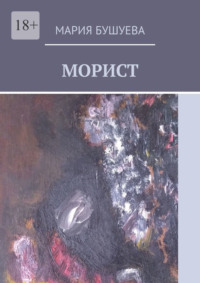Полная версия
Дачный сюжет. Роман

Дачный сюжет
Роман
Мария Бушуева
© Мария Бушуева, 2025
ISBN 978-5-0068-5154-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
МАРИЯ БУШУЕВА
ДАЧНЫЙ СЮЖЕТ
роман
Лица его родни шелестели в листве, темнели и светлели в траве, то в одном месте дачного сада, то в другом: вот промелькнул в жёлтых стеблях правильный профиль отца, Антона Андреевича Ярославцева, его тут же вместе с сухой травой унесло вдаль быстрым порывом ветра, но среди древесных веток успела откликнуться ему солнечным бликом улыбка матери Анны; ей тут же отозвалась мягкая морщинистая рябь – это бабушка Юлия Николаевна посылала с облака свой привет, и за ней пушинкой, в сердцевине которой твердело семя, спустилась в сад лёгкая тень простой и мудрой бабушки Клавдии Тимофеевны…
Внезапно со звякнувшим щемящим звуком просквозил по выступающим древесным корням острый профиль Сергея и зацепился за поднимающийся из-под сухой земли рыжевато-коричневый сосновый бугор. А среди тёмно-зеленой хвои вспыхнуло рыжим пламенем яркоглазое лицо деда.
– Чутьё, его вело чутьё, эге?
И кора запестрела цыганской юбкой, и старая королева – хозяйка дачного дома – возникла на миг, как солнечный воздушный столп – тут же распавшийся на золотистые искры, одна из которых уже сверкала в живых и нежных глазах вышедшей на террасу Натальи, сестры.
– Я прочитала недавно один роман, – Наталья смотрела на брата своим тихим взглядом. – Мне очень понравилась книга, там есть такой эпизод: герой читает старые письма советской эпохи, в которых родня обменивается впечатлениями о рождении детей, о поездках на юг, о своих огородных посадках… И герой бросает письма в огонь, потому что считает, что той жизни уже не существует и не будет никогда. Но это – мужской взгляд. А мне кажется, та жизнь никуда не исчезла, она так же длится и длится. Мы, женщины, ощущаем глубинные течения, связывающие человеческие души. Во внешней жизни меняются декорации и правила игры, появляются новые герои, выбрасываются на свалку старые. На самом деле это только майя, только очередная иллюзия…
А жизнь внутренняя – жизнь наших бабушек, наших родителей и наша юность – всё остается в нас.
Мы такие же – мы так же хотим любви и счастья.
Часть первая
НА СТАРЫХ ДАЧАХ
Узнаю тебя, жизнь, принимаю…
А. Блок
I
Чутьё, чутьё, его вело чутьё. Место самое обыкновенное, никакого искусственного моря тогда в помине не было, так, приток небольшой, крутые берега, правда, сосны, да, сосны – красиво, особенно вечерами. И несколько домишек, не дачек – обычных домиков со стариками и старухами. Вот здесь, говорит, построю я дачку. И что теперь, ведь всего сорок лет прошло – и здесь самый престижный дачный посёлок: «Волги», «Жигули», а как начались девяностые, сплошные иномарки…
И дырявая кастрюля папаши.
Сергея в школе пытались звать Сержем. Отмахнулся: пошло. Кликуха для банды. Приклеилось другое: граф. Тоже ведь прозвище, но почему-то не отнекивался, не морщился – даже нравилось. Льстило, наверное. Граф сказал, граф пошёл. Не пошёл – побежал. Быстрый, порывистый, смесь холерика с меланхоликом, как про себя любил говорить. Девочкам нравился, лезли все. Кроме скромных. Те влюблялись в других: попримитивней. Это всегда так в юности, как раньше говорили: Лондон – город контрастов, – в том смысле, что, если ты сам сложный, то тянет тебя к примитивам. Сергея ласкали девочки крупнокалиберные, рано созревшие. Было, видимо, что-то притягательное в его чувственности: целовался как-то по-особому, что ли… Ему не было еще пятнадцати, а ей тридцать три. Долго забыть не мог. Учительница первая моя. Так её называл. Ты помнишь, отец? Эге?! Хорошая баба была, он и сейчас кому угодно это повторит. Хорошая баба. Всегда поможет – только попроси поласковее. На дачке прошёл он свою первую школу. Граф. А она – жена кучера. Муж у неё работал таксистом. Налей, налей бокалы полней. Он ей пел. Муж, говорит, у меня тряпка. И жалко. Жалко у пчёлки, а пчёлка на ёлке – выгляни в окно! Так вот с тобой и пою. На гитаре он, правда, никогда не играл. Не умел. И учиться не пожелал: инструмент для парикмахеров, как бабушка изъяснялась: ещё только гриф алым бантом обвязать, а тебе чуб завить. Дед был, конечно, проще её. Но с чутьём, говорю, с чутьём, а?
Отец молча слушает. У него вообще такая манера: как можно меньше себя проявлять. Многие вопросы до него просто не долетают. Шум жизни, точно поток, огибает его и уносится вдаль. Жена Сергея, Томка, уверяет, что в конце отечественной войны, когда Сергеева отца, девятнадцатилетнего парнишку, тяжело контузило, у него отвалился какой-то загадочный винтик, отвечающий за душевные переживания.
Эге! Анекдот старый: стоит человек на остановке, а у него в ушах бананы. Подходит другой, видит, обращается к первому: гражданин, у вас в ушах бананы. А?! У вас в ушах бананы. Что?! Не слышу?! У вас в ушах бананы. Не слышу! Не слышу! Говорите, пожалуйста, громче, поскольку у меня в ушах бананы. Сергей криво смеётся. Он всё делает быстро, криво, рывками.
А что? Не так? Не права я? Томка встаёт, пожимает плечами, отворачивается от супруга. А что же делает супруга одна в отсутствии… Она бровки поднимает, выщипывает пинцетом. Не так? Первая жена Антона Андреевича ушла, годовалую дочь Наташку забрала, тебя, сына своего, оставила. Скучал он по дочери? По жене? Ещё чего! И тебя прям-таки завоспитывал, заласкал. Наплевать ему было на всех… Бабушка тебя вырастила. Бабушку Томка уважала. Старая интеллигентка была. Сдержанная, деликатная, всегда в хорошем костюме, даже чулочки в цвет. Подозрительная, правда, – плохо с людьми сходилась. Антон Андреевич сразу тогда женился вторично. Сергею уже десять лет было. Но вторая жена погибла, остался трёхлетний сын. И что – умер с горя Антон Андреевич?! Страдал? Мучился? Как бы не так!
Ей-то, Томке, и лучше, что Антон Андреевич такой: вся её родня на даче живёт. Братец и сестрица раньше часто наведывались – теперь что-то не очень. И, слава Богу. Приедет, бывало, Наталья, сядет на веранде на бабушкин стул, физю вытянет – глядите-ка на меня, принцессу.
– Какие у Натальи губы красивые! – как-то сказал Сергей восхищённо.
– Красит, вот и всё, – отрезала Томка. И всё сестрице не так – то кровать не там стоит, то телевизор спать мешает. А теперь вдруг Антон Андреевич задумал дачу поделить между детьми. Наглость какая! Сергей на ней всегда жил, потом с ней, с Томкой и Томкиной мамашкой – молодящейся старухой – бывшей актриской оперетки. Красотки, красотки, красотки кабаре! Не ори, Сергей, своим козлиным голосом. Обиделся. И за сестру тогда обиделся. Нет, красивые губы и всё. Ну ладно, Наталья хоть родная сестра, а этот, Митька, сводный – а главное, типичный тунеядец. Его Томка ненавидит особо. Чем он лучше Сергея, что все о нём языками чешут: говорят, Митя там, слышали, что Митя у вас так-то, рассказывают, что у Мити… Встретишь дачного соседа – сейчас все они тихонькие – неохота зады-то от насиженных кресел отрывать, а время смутное – и первый вопрос: а младший сын Антон Андреича где? Авантюрист и тунеядец. Но не ответишь так. Ах, не знаю, давно не был, что вы, мы так всегда рады, когда он приезжает, да, конечно, удивительный, но сложный, сложный, сейчас-то таким проще будет, вы считаете?.. Ох, молодость, сокрушается сосед. И мы в его годы такими были. Пообломали. Привет Антон Андреичу. Поклон супруге. И потащился коряга.
Дачу ему – подавится!
Себя Томка считает несчастливой, и это как бы даёт ей право требовать у судьбы компенсации – ну хотя бы качестве места для отдыха себе и сыну. А что, такой муж, как Сергей – счастье? Все знают – он запивается. Знают, но молчат. А её мать?! Ох, уж не повезло тебе, Тамарочка, такая ты невзрачненькая, одно тебе остаётся – учиться, учиться и учиться. Отец был, конечно, хороший мужик. Подполковник. Инженер военный. Мебель и ту – своими руками. Крестьянский сын. Но тоже стал попивать к пенсии. Тихо, сам с собою. А что: от супруги такой – запьёшь. Клюнул в молодости на смазливость. Губы, правда, у Томки яркие, пухлые, Сергей в первые ночи всё целовал, целовал – рот на поллица расползался. Нет. Враньё. Нежный, ласковый он. Это другой – садист. Женись, говорит, граф, на Томке, отличная она девка, не ошибёшься. В тот раз она от Сергея и забеременела.
А эта красит – точно красит.
Томка стала инженером. Денег мало. А теперь у честных людей денег и не может быть. На юга не наездишься. Водку Сергей жрёт – только десятки летят.
– Чутьё, у него чутьё было! А твою вторую жену, ты же помнишь, наш дед не любил…
Отец морщится слегка: об умерших дурно не говорят.
– …Хоть и красивая была, полногрудая. Слышу – плачет Митька, я в его комнату – он один, описался весь, а мне-то – одиннадцать, я к вам в спальню, она поднялась
– грудь огромная, голая, рукой машет – не мешай.
Отец непроницаем. А может, всё забыл. Налей, налей бокалы полней. Слышишь, отец, – Митька не в нашу породу пошёл…
Дмитрий, Митя, сколько ему сейчас? Антон Андреевич мысленно подсчитывает. Скоро двадцать два. А – ничем ничего.
– …И дети твои, отец, все – неудачники, – говорит Сергей неожиданно. – Наталья одна, ни одного парня у нее никогда не было, и сейчас нет. Я… ты знаешь сам… сам ты всё обо мне знаешь… Однако не побледнел ли ты, Антон Андреевич?
– …И этот твой, младший, бездельник!
– Он – не бездельник.
– Неудавшийся художник!
– Всё у него хорошо, хорошо у него всё будет.
– Чушь! – Сергей злится. – Ты помнишь его Лильку? Сколько они прожили? Год? Полтора? Дурацкий брак. Зачем, скажи, нужно было ему в девятнадцать на ней жениться – ведь такая ду-у-ура несусветная! Красавица, видите ли, твою мать…
Отец смотрит в сторону. Не любит бесед, бередящих душу. У всех всё хорошо, у всех всё хорошо. Выпил рюмку, выпил две. И что он цепляет?
– …Болтается, как цветок в проруби, зачем Митьке дача? А Наталье можно отдать сад, пусть клубничку выращивает, но Митьке…
…Летний вечер на даче. Темнеет. Доносятся с веранд соседних домов спокойные голоса. Сергей задумался над листом тетради. Когда-то он мечтал стать журналистом, потом писателем, и сейчас – в этот летний вечер на даче – ему верится, что он в будущем сможет написать роман. Так, что ещё? Он прислушался и записал: кто-то поёт, кто-то смеётся. Потянул воздух ноздрями. Так. Пахнет дымком: на той стороне улицы сосед, кандидат геологических наук… три последние слова вычеркнул… топит баню. Ещё тепло. Чай со смородиновым листом так душист. Скоро совсем стемнеет, о стекло веранды забьются ночные мотыльки, на лесной поляне неподалёку разведут костёр. Ночь, тепло, купание, светится женское тело во мгле. Как бы описал Бунин? Тело её казалось… тело её… поцелуй… поцелуй… А сейчас, кстати, Татка и Митя ушли купаться. Прочитал, всё перечеркнул, лист смял, поднёс спичку – сжёг. В пепельнице пожар. Гоголь Н. В. Второй том. «Мёртвые души».
Они идут по еле-еле видной во тьме лесной тропинке. Словно морды вокруг из кустов, словно вздохи и стоны – ночь. Митя видит, слышит, ощущает – точно прибор. Нажми кнопку и получишь нужный ответ, всегда интересный. Умный парень мой братишка Митька, думает о нём Наталья.
Этакая – так характеризует сестру Сергей. Он рядом с ней чувствует себя стариком, она же – совсем как девчонка. Медичка. Тру-ля-ля. Он медичек всегда любил. Школа, технический вуз, хоккейная сборная, хорошие характеристики – и вот позвали служить. Томка надавила – надо, хоть будем жить, как люди. Теперь – капитан. Не его это совсем, говорит о брате Наташа. И чувствует: недоволен Сергей всем. Кроме, пожалуй, одного: здесь, на даче, ему хорошо. Он каждый вечер поддаёт – портвешонок какой-нибудь – и ловит кайф.
– Ой! – пугается Наташа. – Белеет что-то!
– Столб.
– Как темно кругом!
– Ты купаться будешь?
– Конечно!
– Я тоже! Они сбегают по крутому склону к воде. Шелестит, шепчет – слышишь? – шелестит море, шепчет. Наталья тоже шепчет, ей не хочется сейчас говорить громко; она сбрасывает лёгкую юбку, тапочки, белую мужскую рубашку. И Митя раздевается.
– Худой ты, ужас! – говорит она ласково, со смешком, и дотрагивается до его тёплой загорелой кожи. – Весь в мурашках! – И в воду бежит. То плечо её просияет серебристо, то сверкнёт белой скорлупой круглая пяточка; она плещется и смеётся…
– Ну, иди же, трусишка!..
Всегда Митя сначала немного медлит перед тем как нырнуть, идёт тихо, ему холодно, хотя вода тёплая, – наверное, мама в детстве мало обнимала его, и он замерзал в своей детской кроватке – но вот он, наконец, разрезает руками воду и плывёт, забыв обо всём сразу – и о том, и о том, кто он есть – имя свое он вряд ли помнит сейчас, качаемый материнской волной, закрывший зелёные свои глаза, на спину лёгший, доверившийся летней ночи…
«На даче спят, – бормочет Наталья стихи, когда возвращаются они в посёлок, – как флот в трёхъярусном полёте… как флот в трёхъярусном полёте… как флот…»
Ей, наверное, нравится в жизни то, что и всем похожим на неё её ровесницам: джинсы, стихи и Гребенщиков. Правда, она сама путается: то ли действительно всё это ей нравится, то ли ей только кажется, что всё это действительно ей нравится…
– Ты словно во сне, – говорит она вдруг Мите, – будто всегда не с нами.
Так вот, бывает, скажешь – удивишься. Особенно странно – такое – и о Мите. А может, не о нём? О себе? Сомнамбулизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно, – смеётся он.
– Пора спать.
– Пора, – соглашается он.
– Жалко…
– У пчёлки…
– Пчёлка на ёлке!
– Кто-то курит? «Кто?» – Наталья смотрит пристально, прищурившись: курит на веранде Сергей.
– Явились – не запылились, полуночники! – в его голосе досада. Они всё-таки обидели его вчера. Играли с Митькой в оперу – не говорили, а пели: Иди-и-и-и ко мне-е-е! или – Нале-е-ей мне ча-а-аю! – вдруг он из комнаты подпел сверлящим тенорком: – И мне-е-е-е!
Они переглянулись, фыркнули – и игра закончилась.
Митя бесшумно пролетает мимо Сергея. Разные миры. Разные планеты, вращающиеся вокруг одной, отцовской.
– Постой, не ложись, – внезапно просит Сергей Наталью, – посиди со мной!
– Ветер, – тихо говорит она, облокотившись о стол. Она покачивается на стуле. Закрывает глаза. Словно вода, вновь обтекает её воздух июльской ночи.
– Шумит ветер… Сергей молча курит. Потом встаёт. Скрипнув, отворяется под его рукой дверца старого шкафа. Лунный блик стремительно стекает со стекла бутылки и ныряет в его глаза.
– Выпьешь?
В бокалах чуть колышется вино. Колышется ночь. Июльская тёплая ночь обволакивает её. Июльская ночь.
* * *
Он запнулся о них – иначе бы не заметил.
– Ты что не спишь, шатаешься? – Сергей не выругался, сдержался. Запнулся, но ничего не понял. Так и прошёл сонный – туда и обратно. Холодили щиколотки влажные лопухи. Плюхнулся на матрас, набитый свежей травой, тут же заснул вновь. Ему нравилось спать и видеть сны. И приснилось ему, что наткнулся он в темноте на Сергея с какой-то девушкой, сплетённых на траве, и наклонился, – и вдруг сердце так бухнуло, что он проснулся: тихая, тихая ночь. И вновь упал в сон. И другое приснилось: Наталья в крови. Грудь её залита кровью. И опять сердце так стукнулось о стену груди, что проснулся. Уже рассвело. А днём Наталья уехала на электричке в город. Торопливо покидала свои платья и юбки, спотыкаясь о столик и стулья, пролила чай, остывший в чашке с отбитой ручкой, чмокнула Митю.
– Провожу, – предложил он, хотя у них не принято было встречать и провожать. Излишняя сентиментальность.
– Нет, нет. – И уехала.
* * *
…А знаешь ли ты, Наташа, почему твоя мать ушла от отца? Ты была совсем крошкой – года тебе не было, и Ниночка отказалась ехать с твоим отцом на дачу: нет, говорит, там нет горячей воды, ладно Серёжка, а Наташечка еще совсем малышка, а может, тебе полтора было, не помню…
Наталью вырастила бабушка, мать матери, Клавдия Тимофеевна, бухгалтер в прошлом. И дед был бухгалтером. Тогда называлось – счетовод. Волей случая или волей судьбы всех троих детей Ярославцевых – Сергея, Наталью и Дмитрия – воспитывали бабушки. Каждого – своя.
Наташа, конечно, была уверена, что волей судьбы.
Иногда все трое собирались на день рожденья их общей бабушки, Елены Андреевны: тринадцатого июля, на даче. Порой кто-то из троих отсутствовал – или Митя по рассеянности или Сергей из-за важной (все его командировки были «важными») поездки. Старушка аккуратно и элегантно одевалась, любила повспоминать свою петербургскую юность, родив сына Антона уже почти под сорок, она всем своим внукам годилась в прабабушки, и, пристально поглядывая на окружающих своими длинными светло зелёными глазами в жёлтую крапинку, так иронично улыбалась, будто давала понять – она знает давно всем людям – и несомненно, и внукам своим! – цену. Невысокая цена, нужно признать с грустью.
И только Сергей считал Елену Андреевну своей.
– Моя бабушка, – говорил он Наталье, – она мне и отца и мать заменила. Ты нашего отца знаешь…
Наташа несколько обжалась за их вторую бабушку, Клавдию Тимофеевну.
– Ты её совсем мало видишь, и не представляешь даже, какая она хорошая.
– Блинчики она вкусно готовит. Факт.
– Обжора!
– А ты-то!..
…А такие худые и брат, и сестра, но для девушки Наталья высокая, Сергей же – средненький, щупловатый, хоть и жилистый, он сутулится и когда стоит, разговаривает, то коленкой острой дёргает – точно внутри у него всегда звучит нервная музыка. Но что-то в тебе, Серёжка, есть, что-то – есть. Наталья щурится. Ну, не удивительно ли, что, несмотря на различный цвет глаз: у Сергея – синие, у Наташи – светло-карие, ореховые, у Мити – зелёные, – щурятся они все одинаково. Как бабушка Елена.
Митьку воспитала Юлия Николаевна: такая мощная старуха, как выражается сам Митяй.
Наталья отогнала комара, почесала ногу, приподняв оранжевую юбку чуть выше колена. И засмеялась.
– Комары…
– Ну, и не вижу ничего смешного.
– Так вот, Серёга, бабуля рассказывала, что мама наша ушла от отца потому, что ей, когда она осталась в городе, не поехав с ним на дачу, а ты, выходит, был здесь, с папашей, в общем, она была дома одна, а бабуля гуляла со мной в парке…
– Помню, тоже с тобой гулял. У тебя капор был смешной, какой-то старомодный. С бантом! И сумочка.
– …И какая-то женщина, тётка, приносит нашей мамульке записку, вам говорит, просили передать, и тут же исчезает, а в записке – ваш муж такой-то, пока вы в городе болеете, наверное, или ребёночек у вас младший болеет, а ваш супруг косой изменяет вам на даче с такой же точно уродиной кривой…
– Это он мог.
– Я сама записку не читала, но бабушка рассказывает, что она была написана печатными буквами на листочке в клеточку, то есть из тетрадки вырванном. И мне, знаешь, что обидно? Отец-то косит совсем незаметно.
– Эге.
– Кто мог нацарапать пасквиль?
– Понятия не имею.
– Бабуля говорит – соседка по даче. Жене дядь Миши это не надо – она считает себя слишком духовной. Без пяти минут доктор наук. Она всегда книжки читала, о смысле жизни размышляла.
– Бедный мужик!
– Геологине, вроде, тоже. И потом – она каждое лето – в партии со своим. Для полковничихи стиль слишком сложен – такая тонкая параллель косого с кривой… В общем, – какая-то змеища, которая валялась вместе с мамулей на пляже…
– Странно.
– Ну, вот, бабулька привозит меня, вынимает из коляски, а дочь её вся в слезах, она же у нас была такая растютёха, что такое, откуда эти слезы? Записку принесли! Негодяй, он не может скрыть свою порочную натуру! Изменять такой женщине! Я тебя растила, думала, ты выйдешь замуж, как нормальный человек, как неглупая женщина… А ты с ума сошла, я молила тебя, когда перед Загсом он попросил у меня иголку с ниткой – извините, мол, мне нужно брюки зашить, – молила тебя, на колени падала – остановись! В общем: сволочь, негодяй, мерзавец. Вскоре папаша нарисовался: ку-ку, мои хорошие, родные, золотые. А ему а! ты! так! тогда! мы! все! конец! В общем: куку. Финита ля комедия.
***
– Странная история, а, Митя? – рассказывает Наталья в другой раз.
– Банальная, – говорит Митя скучно, – банальная, как любая измена.
– Но кто написал записку?
– Кто-то.
– Слушай, ты такой рассеянный с улицы Бассейной, ты вообще ничего не слушаешь, слушать не желаешь, тебе безразлично, почему распалась семья! Ну, конечно, – язвит Наталья, – не распадись наша семья, не было бы тебя!
– Всё именно потому и произошло, – Дмитрий улыбается, вечная манера Ярославцева-отца: то ли шутит, то ли серьёзно говорит. Любит он розыгрыши всякие, мистификации. И сын такой же. У!
– Возможно, никакой измены и не было. А если и была, то…
– Отец-то сам признался: грешен.
– А… – Митя делает наброски.
Нет, нет, как-то объяснял он Наташе, колдуя над её мордочкой, я лучше рисую с внутренней натуры, мне нужно вчувствоваться в человека, чтобы он отчётливо был мне виден, когда я закрываю глаза: вот он, в тёмной комнате, освещённый так, будто в потолке перевёрнутый колодец, из которого свет, истекая непонятным образом, оставляет всю комнату в тени кроме сидящего или стоящего человека. И тогда я делаю портрет. У меня внутри – цветной слайд – и я его как бы проецирую на экран холста.
Вообще-то Наталья ничего в этом деле не понимает, лишь ощущает: да, хорошо – или нет, как-то не так. У Мити по т о й линии способности к живописи. Те, наверное, вообще все необыкновенные. Правда, их почти никого не осталось: мать погибла, на такси налетел грузовик – ужасно! – Митьке было три.
Роковое три. И Наташке было столько же, когда мать вышла замуж за отчима. Одна бабка у Мити – и всё. И какие-то мифические родственники, актёры вроде или писатели. Митя уверяет, что если и актёры, то погорелого театра. А если и писатели – то футбольных обозрений. То есть репортёришки. Есть даже какие-то богачи в Канаде. Однофамильцы, – смеётся Митя. Но бабушка его свято отстаивает генеалогические линии. Наталья редко, но всё-таки у Мити бывает. Книг много, но как-то по-старинному всё. Бабушка, Юлия Николаевна, похожа на львицу: нос короткий, голова крупная, лицо властное. Жену Мити – кошечку грациозную – она прихлопнула одной лапой. Митя, конечно, сглупил. Фифочка такая: ах, Дмитрий, сделай мне портрет на фоне вот того куста шиповника. И чтобы я – в розовых тонах. Бывают дуры, но такие! Она всё заставляла его халтурить в ущерб учебе в институте, на шубу ей и другие шмотки деньги зарабатывать. Бесполезно. Митя – кремень. На вечность пашет. И не разберешь порой, что у него на картине, – а завораживает.
А бабушку свою он обожает, как Миша Лермонтов свою. Советуется с ней, отпрашивается у неё. Забавно. Наталья, откровенно говоря, всего этого не понимает. Ну, и она свою старушенцию любит, но нормально. В умеренных пределах. Та ворчит, иногда мешает, порой запрещает поздно приходить. Наталья, конечно, всё равно всё делает по-своему. Но не возражает, если мать старушку забирает на праздники или так, на недельку-две погостить.
– …А это почему у меня глаза разные? Один – какой-то зелёный? У меня же карие?
– Реалистичная ты моя! – он смеётся.
– Понятно, просто в одном моём зрачке уместилось лето!
***
…Лето… как пахнет травой, как пахнет водой, зелёные стаи кустов проносятся над твоей головой, ещё не созрела черёмуха, но мальчишки уже качаются на ее ветках… кто это? Это корова, не бойся, она просто сюда забрела, помнишь, как рисуют в детских книжках: у коровы длинные, загнутые ресницы… как мои?… твои? Да. Пусть будет так. Ты нахал. Немножко. Лето, лето, если смотреть снизу, с песка, то все девушки длинноноги. Вот, противное облако, оно закрыло солнце! Не бойся, сейчас оно снова покажется. Точно!..
…Лето, лето, вон парус твой, твой листик зелёный, твой голубой парашют, твоя серебристая рыбка, твоя золотая слеза далеко-далеко уплывает, о, как ты волнуешься, что ты, река, всё вернётся опять… Никогда бы я не подумала, что бывают такие мохнатые, ужас. Шерстяной человек… Вновь, река, ты уносишь меня по волнистой дороге своей, по струящейся, по золотой, по смеющейся и голубой, по дороге, дороге своей… А тебе нравится грудь вон той женщины?..
Они вернулись с пляжа. Наталья и Митя. Их общая бабушка, Елена Андреевна, умерла полтора года назад, её похоронили в дождливый январский день, вот, случился дождь в середине зимы, и не стало на даче нехлопотливого её дозора – но остался комод, в котором почему-то все ящички были закрыты на ключ.
А ключа, разумеется, не было.
– Надо спросить у отца, – сказала Наталья, сняв мокрый купальник и накинув полосатый халат. Послезавтра она уедет, торопливо покидав платья, юбки, блузки и прочее в сумку, забыв лишь сине-красный халат, а сегодня они будут вечером, все вместе, есть клубнику, купленную на дачном рынке. В саду у них, который не здесь, а совсем в другом месте, далеко, возможно, и произрастает ягодка, но садом занимается жена Сергея Тома. Как вас звать? Тома. И этим всё сказано. Так определяет её Митя. Худой, длинный, он на голову выше брата. Тома кличет Дмитрия жердью.