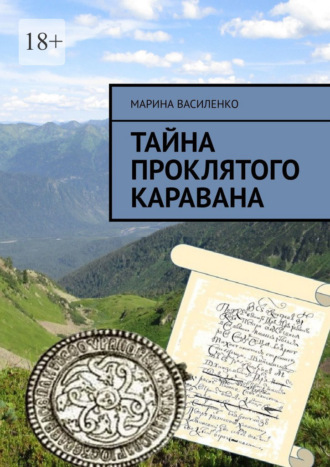
Полная версия
Тайна проклятого каравана
Берггешворен усмехнулся:
– Да уж, дорога… По воде не получится – не на чем. Морестав9 не раньше половины декабря – ждать полгода, пока зимник наладится, нам не с руки. А насчет того, что опасно… Так не опаснее, чем водою. Снаряжать караван надо, ваше высокородие, другого выхода нет…
Всего только одна сухопутная дорога длиной более семисот верст связывала Заозёрье с Губернским Городом и через него с Большой Землёй. Поддерживать ее в рабочем состоянии было крайне трудно, ибо непростой рельеф и непредсказуемый климат чрезвычайно осложнялись слабой населенностью местности. И если по степям и лесам Заозёрья для перевозки тяжелых грузов можно было, по крайней мере, использовать подводы, то после того, как в районе последней пограничной заставы дорога сворачивала к северу и резко уходила вверх, в труднодоступные Приозёрские горы, она превращалась во вьючную тропу. Проходившая через головокружительной высоты перевалы и глубокие ущелья с крутыми склонами, через студеные ревущие реки, вечную мерзлоту ледников, каменистые осыпи и топи высокогорных болот, она мало годилась для передвижения караванов и использовалась крайне редко, в основном в межсезонье, когда невозможны были ни навигация, ни зимний путь по льду Озера. Либо же в случае крайней нужды. Такой, как сейчас.
Особо ценный груз, представлявший государев интерес, каковым и являлось серебро Заозёрских заводов, конечно, надлежало перевозить с максимально возможной скоростию, безо всяких задержек и остановок в пути, дабы обеспечить безопасность. Но, несмотря на все поспешности, скорость гужевых караванов даже по хорошей дороге вряд ли могла превысить 100 верст в сутки. А в хребтах Заозёрских гор и вовсе получалось за сутки верст 20—30 – сколько может преодолеть пеший человек на пределе своих возможностей.
– …У нас нонче почитай полтыщи пудов с лишком выплавлено. Своими силами навряд ли справимся. Объявить надо, не сыщется ли желающих взять подряд на доставку. А для охраны казаков приставить поболе. И вот еще что: с приграничного торга купчины товары повезут в Губернский Город – составим с ними кумпанейство. Чем больше народу соберется…
За дверью послышались быстрые шаги и торопливые, срывающиеся на крик голоса. Берггешворен осекся, вопросительно глянув на бригадира Сурова. Тот бросил, наконец, злополучную промеморию в кучу остальных бумаг на столе и раздраженно обернулся. В покои стремительно ворвался вестовой, с епанчи10 его ручейками стекала вода, сапоги оставляли на полу грязные следы.
– Вашескородие! – скороговоркой начал он, одной рукой срывая с головы промокшую шляпу, а другой вытаскивая из-за пазухи такой же промокший бумажный пакет. – Срочное донесение от обер-бергмейстера Лодыгина! Беда у нас, вашскородие! Колодники бежали!
– Будет те гаркать11, варнак12! Чай не впервой бегут, – Суров опять поморщился, потом насторожился. – Лодыгин? Это Чарский завод? Дай бумагу! – Торопливо сломав печати и развернув пакет, погрузился в чтение, всё более и более мрачнея.
Писал Лодыгин, что де опасный секретный арестант обще с двумя другими, что с ним в одном каземате заключены были, отодрав доску у казенки13 и, отперев гвоздем замки на стенной цепи и кандалах, бежали. Что де еще до побега уверял показанный арестант, что указ о Петре III, императоре, якобы он умре, писан ложно, а он де действительно Петр III, император, о чем многих людей склонял и приводил в свою волю. Почему и тамошняя Чарская контора приступить к производству сего дела смелости не имеет и просит де он, Лодыгин, дабы для поимки означенного арестанта посланы были во все Энские команды строгие приказы с предписанием о возможно скорых розысках…
****
– Точно вам говорю: в деревню идти надобно. Кум у меня там живет. На дорогу хлеба да одёжу добру справит, да тропами звериными выведет стороною казачьих разъездов к тунгусам, – тощий оборванный бродяга растянулся на траве, блаженно щурясь от проглянувшего сквозь марево14 неяркого и нежаркого солнышка. Припасенные когда-то неизвестными беглецами в балагане15 сухари оказались как нельзя кстати. Вместе с сытостью пришел покой и уверенность в благополучном исходе всего этого дерзкого предприятия. – Князь их по обещанью своему нас не выдаст. А там уж кумекайте: в Расею ли ворочаться, куда кому случай допустит, в Китайское ли государство податься, воля ваша…
Двое товарищей его, таких же изможденных и болезных всё еще жевали прогорклые, заплесневелые сухари, запивая ледяной ключевой водой, и вяло отмахивались от надоедливого гнуса.
– Господь с тобой, батюшка! – густым басом отозвался один, который постарше. – Пошто нам к бусурманам в Китаи-то идти? Душу християнскую губить…
– Дошлый16 ты, аднака… – перебил его второй. – А и в Расею как? Сгинешь по дороге. Брат мой сродный говорил, ежели бежать, то на Килгу – на звериный, або рыбный промысел. Там де хоть до смерти жить можно… А то разве поскитаться по тайге, пока тепло и харчей лесных – ягод да грибов – в достатке, а там и обратно на рудник. С каторги ходу нету. Жизь такая наша. Каторжная…
– Соберет князь команды своей тунгусов, – не особо слушая собеседников, продолжал первый, – и что я буду повелевать, туда и повезет. Я же как есть подлинный император, аще с божией помощью освобожусь, подданных своих ничем не оставлю и покажу милость: освобожу от заводских работ и чем ни есть награжу…
– Поместье у меня большое, заведение знатное: деревня в семи кирпичах построена, рогатого скота петух да курица, – ехидно засмеялся тот, который помоложе, – а медной посуды крест да пуговица. Жил я в богатстве, пиво варил да к китайской Пасхе. Аж семь дней. Да наварил сорок бочек жижи да жижи, а сорок бочек воды да воды. Хлеба разного пошло семь зерен ячменю да три ростка солоду, а хмель позади избы рос. Проголодался я, добрый молодец, и свинья по двору ходит такая жирная, что идет, а кости стучат как в мешке. Хотел я отрезать от нее жиру кусок, да ножика не нашел, так и спать лег17…
Тот, который называл себя императором, попытался было остановить поток бестолковщины, но потом махнул рукой и полез в тесный балаган. Старший бродяга укоризненно глянул на молодого рассказчика.
– Ахти-и-и-и… – фыркнул тот, – да эт еще не сказка, а присказка, сказка-то вся впереди. Дали мне кафтан, я надел, иду путем-дорогою, а ворона летит да кричит: синь да хорош, а я думал: скинь да положь. Скинул, положил под кустик, пришел назавтра, только место знать, а кафтана нет и не видать…
Такие нескладушки-неладушки могли тянуться бесконечно, пока хватало терпения у слушателей, а уж сказителю фантазии было не занимать: прибаутки и приговорки никогда не повторялись, и сюжеты каждый раз были разными. Но разглагольствования эти были делом столь же привычным, как и вездесущая мошкара, и слушатели быстро задремали. Заметив это, молодой бродяга замолчал, некоторое время подумал, заглянул в балаган – спит. Потом, не особо церемонясь, двинул острым локтем под ребра своего соседа. Тот сдавленно ойкнул.
– Ш-ш-ш-ш-ш… – толкнул его еще раз, помягче. – Скажи-ка мне, отец, кто он таков человек бывал? – кивок в сторону спящего. – Доподлинно ль император? Чудно всё то, сумнительно…
Старый бродяга зевнул, потянулся, потер ушибленный бок, запустил грязную пятерню в клокастую бороду…
– Дык хто б знал… Бают, распоп18 Евдоким признал его за государя. Да из ссылочных один, Трофим, кажись, сказывал, дескать в бытность ево во услужении у грузинского царевича, который де тогда в Москве жил, видал Петра Феодоровича. Да Кузьма-приписной19, что на Большом Заводе при печи руду плавит, уверял, что видел государя в Питербурхе, в Тайной канцелярии20, и что наш… – опять кивок в сторону спящего, – на лицо таков же, как и император.
– Чудны дела твои, Господи… – вздохнул молодой, – как же он попал-то сюды?
– В Воронежской губернии, грят, бывши в обличьи солдата для осмотра тамошних полков, был пойман и послан в каторгу, не поверя, што он великой человек. А я так чаю, – бродяга понизил голос, – не иначе как по приказу императрицы21 в каторгу-то его… Дюже мешал ейным боярам – хрестьян хотел избавить от ига барского. Многие у нас к нему приходили. Из заводских служителей, да из хрестьян, да из казаков. Князья тунгусские и взаправду приезжали – братья Алексей да Степан. Подношения ему оставляли – и деньгами, и провиянтом. Приказывали, какая ему нужда в пропитании и одёже будет, присылал бы к ним нарочных, с коими де оне и будут присылать к нему всё потребное для него… Адъютант его высокородия приходил, оставлял три двоегривеника милостины…
Опять спряталось солнце, заморосил дождь. Похолодало. Беглые каторжники, прижавшись друг к другу, и прикрывшись одной на двоих драной дерюгой, найденной давеча на заброшенной заимке, вели свой неспешный разговор, вспоминая всё новые удивительные случаи, связанные со столь высокой, страшно сказать, царственной персоной. Персона же спала в тесном шалаше под дырявой наспех сооруженной крышей из травы и веток, свернувшись от холода калачиком, постанывая и всхлипывая… Наконец, когда совсем завечерело, его без особого пиетета подергали за ногу:
– Вставай, ваше величество! Пора идти к твоему куму. Дорогу-то знаешь? Хотя, откуда…
Спящий вяло отмахнулся, нехотя возвращаясь из сладких сновидений в жестокое бытие. Там, за гранью реальности осталась родная Слобожанщина22. Светлые леса и жирный чернозем пашен, благоуханные сады, широкие степи, щедрые пасеки. Там стояли в ряд чистенькие маленькие хатки-мазанки с соломенными крышами. Там размахивали крыльями ветряные мельницы, и кланялся длинной шеей журавель над колодцем. А главное – солнце! Благодатное, животворящее, родное…
Усилием воли открыл глаза. Черный страшный лес качает макушками сосен. К лазу в балаган подступает злая, полная опасностей темнота. Шепчет, подвывает, запугивает. Остаться в ней одному – смерти подобно, и тот, который называл себя императором, поспешно выбрался наружу. Двое других уже ждали, готовые тронуться в путь. Мелкий моросящий дождь шуршал листьями, и рваная насквозь мокрая каторжная одежонка совсем не спасала от его леденящих объятий.
Перекинувшись парой фраз, двинулись, едва разбирая тропу, путаясь ногами в высокой траве, спотыкаясь о кочки и корни деревьев, оскальзывая на раскисшей глине дыроватыми ичигами. Уставшие, голодные, закоченевшие люди, движимые одним только безнадежным отчаянием.
****
– Побеги с каторги были делом обыденным и привычным, – Лёлька оседлал любимого конька, и теперь остановить его было совершенно невозможно. Тем более, что слушатели внимали ему благоговейно, что называется, раскрыв рот. – В беглых числились даже не десятки – сотни человек. И количество их стремительно увеличивалось с наступлением теплых весенних дней. Не довольствуясь одним только подножным кормом, они добывали пропитание грабежами и разбоями вплоть до наступления осенних заморозков, после чего давали себя поймать и водворялись обратно на каторжные работы. А на вопрос, зачем было бежать, всё равно ведь поймают, отвечали: «Дык, вашбродь, енерал Кукушкин позвал». Был и иной вариант: сами приходили сдаваться на другой, отдаленный от прежнего, рудник, сказываясь Непомнящими родства да Бесфамильными и под этими прозваниями продолжали свою каторжную жизнь. Ровно до весенней оттепели, когда опять беспокойный «генерал Кукушкин» сманивал на волю, и волна побегов вновь захлестывала каторжное Заозёрье.
Бежали, как правило, огулом – компанией из нескольких человек, предварительно позаботившись о запасе провианта и теплой одежды, связав караульных и прихватив с собой ружья и порох. Тогда поимка их редко обходилась без перестрелки с убитыми и ранеными с обеих сторон.
Некоторая часть беглецов исхитрялась-таки покинуть суровое Заозёрье. По рекам доходили до самого Озера и пытались переплыть его на краденых рыбацких дощаниках. Иногда – успешно, а чаще – находили свое последнее пристанище в бездонных глубинах.
Другой варнацкий путь вел по горам вокруг Великого Озера, и был при этом не менее опасным и непредсказуемым. «Худенький беглый лучше доброй козы» – говорили местные туземцы, прицеливаясь из кремнёвки или натягивая тетиву лука.
Отношение местных жителей к каторжникам вообще было неоднозначным. Одно дело, когда они в кандалах и под крепким караулом. Таких называют несчастненькими, жалостливые городские барышни подают им милостыню, восхищаясь собственным великодушием и вытирая кружевными платочками слёзы умиления. Другое дело – каторжник беглый. Это хищный зверь, голодный и опасный. Его боятся и ненавидят. В глухих селениях крестьяне выставляли на ночь на крыльцо какую-никакую провизию: крынку молока, краюху хлеба. Но не столько из жалости, сколько в надежде умилостивить незваных ночных гостей. Не считалась зазорной и охота на горбачей – так называли бродяг с котомками на спинах. «С козули снимешь одну шкуру, а с беглого две или три – полушубок, азям23 и рубаху», да и содержимым котомки поживиться не брезговали.
Вот и получалось, что до Большой Земли добирались очень немногие. Но такие были. Случалось, их отлавливали в окрестностях Губернского Города, где они занимались делом для них привычным – грабежом и разбоем – и дальше по Московскому тракту. После примерного наказания «оборотни» отсылались – «оборачивались» – назад в Энские заводы в вечную каторгу, откуда при первой же возможности снова бежали…
– Всё-таки беглые каторжники? – подвел итог Виктор.
Лёлик пожал плечами:
– На мой взгляд, это единственно логичное объяснение. История, конечно, мистическая, но мы ведь с вами рационалисты…
– Ой, мальчики, а ведь где-то в горах до сих пор лежат несметные сокровища! – Марийкины глаза загорелись в предвкушении необычайного приключения.
– Тебе бы только куда-нибудь вляпаться!
– Ну-у-у-у-у… Олег, не слушайте его! Он скучный прагматик.
Время эфира давно закончилось, все трое вышли из студии, уже раз пять попрощались, но никак не могли закончить захвативший их разговор. И только когда пухленькая Анечка привела следующего гостя, торопливо обменялись визитками и разошлись.
Лёлька включил телефон и вприпрыжку побежал вниз по лестнице. Тут же посыпались пропущенные вызовы. Ого! Пять звонков за раз!!! Вот она – слава!!! Шесть… Семь… Девять… Еще два… Еще… О-ё… Пожалуй, тут что-то другое. Так, четыре от Любовь Михалны, два с незнакомого номера, три от зама по науке, восемь от директора. Не иначе случилось чего… Вот и эсэмэсок куча. «Лёлик перезвони», «Лёлик срочно позвони», «Позвони, как освободишься», «Лёля ты где?», «У нас ЧП, срочно приезжай». И прям крик души «ТЫ ГДЕЕЕЕЕЕ?????»
Да здесь он, здесь… Бегом спустился до первого этажа, там запутался в стеклянных дверях и, найдя, наконец, нужную, понесся по коридору, соображая кому первому позвонить, чтобы огрести поменьше оплеух. Под неодобрительным взглядом охранника проскочил турникет и только на крыльце вспомнил про оставленную куртку. Пришлось вернуться… Набрал номер. Телефон сразу же разразился взволнованной скороговоркой:
– Ой, Лёличек! У нас такое! Такое!.. Жуть кошмарная! Тебя все ищут! Приезжай скорей! У нас… Ой, боже ж ты мой… Лёличек, ты в порядке?
Мн-да… идея позвонить старенькой Людмиле Петровне была не самой лучшей. Бессмысленные причитания сыпались, как горох из дырявого мешка, и понять можно было только одно: случилось что-то ну о-о-о-очень плохое. Собрался уже отключиться и вдруг услышал растерянное:
– Лёличек, у нас чертовщина какая-то… Похоже, ограбление…
****
– Итак, Олег Николаевич, Вы утверждаете, что никаких ценностей не пропало?
– Из тех материалов, с которыми работал лично я, ничего.
Понадобилось полдня, чтобы царившему в кабинете хаосу придать хоть какую-то видимость упорядоченности. И теперь Лёлик, Людмила Петровна и практикантка Оленька, сверяясь с документами, озадаченно перебирали разложенный по коробкам хлам.
– У нас тоже всё на месте, – отчиталась за двоих Людмила Петровна. Оленька кивнула.
– Техника? – не унимался дотошный следователь.
Олег отрицательно покачал головой: компьютеры, принтеры, дорогостоящие профессиональные сканеры, фотоаппараты, – всё оставалось на своих местах.
– Что хранилось в сейфе?
– Последнее время ничего. Обычно мы держим в нем предметы, которые имеют большую материальную ценность. Ну, вот, когда что-то покупаем у коллекционеров. Это занимает всегда много времени. Пока согласуем с администрацией цену, пока оформим документы, пока деньги перечислят. Бывает, на последнем этапе казначейство заворачивает платежки, и начинается всё сначала. Потом еще нужно время, чтобы оформить на хранение. И только после всего этого предмет отправляется в хранилище. Еще если на временное хранение принимаем. До выставки, пока витрины не замонтированы, ценные вещи в нашем сейфе лежат. И после того, как выставку закроют, пока хозяин не заберет… Ну еще бывает, если сотрудники что-то ценное приносят из хранилища для работы. Насколько я знаю, уже несколько недель сейф стоит пустым, – Олег перевел дух, Людмила Петровна и Оленька согласно закивали головами – да, так всё и есть, пустым…
– Документы? – не отставал человек в погонах.
– Все папки с фондовской документацией на месте. Из них ничего не изъято – мы проверили, – отчиталась Оленька.
– Тогда что?
Вопрос повис в воздухе.
– Ваши личные вещи?
Оленька ткнула пальчиком в сваленную на одном из столов гору из косметики и дамских романов. Людмила Петровна по очереди выдвинула ящики своего стола. Один оказался набит лекарствами, во втором хранилась подшивка «Вестника ЗОЖ» и молоток. В столе Лёлика обнаружился засохший бутерброд, наушники, один шерстяной носок, какой-то непонятный мусор и чашка, в которой помимо десятка использованных чайных пакетиков плавали островки плесени.
– Папка с бумагами… Записные книжки… Диски… Флешки… Я их не нашел. Вроде бы, были… Наверное…
– Так, наверное? Или все-таки были?
– Я… Я не помню. Может быть, домой унес… – предположение, что целью неизвестных грабителей были его, рядового младшего научного, записи, показалось настолько абсурдным, что Лёлик ухватился за первое более-менее разумное объяснение.
– Что за бумаги? Финансовые документы? Номера счетов? Пин-коды?
Лёлька хихикнул:
– Аха. Явки. Пароли… А я – сын подпольного миллионера. Или не: агент иностранной разведки. Во! – хотел добавить еще чего-нибудь ядовитого, но осекся, поймав замученный взгляд немолодого капитана. – Черновики, заметки к статьям, выписки, ксерокопии архивных документов, каталожные карточки… Всё. Ну, еще адреса, телефоны, имейлы – контакты, в общем, разные…
– Кому оно могло понадобиться?
– Никому. О том и речь.
Капитан задумчиво побарабанил пальцами по столешнице.
– Значит, вопрос «зачем» остается открытым. Может тогда кто-нибудь прояснит вопрос «как»? Как злоумышленники смогли проникнуть в кабинет?
– Ключи на вахте. Сторож спит в своей каморке в другом крыле здания. Сигнализация не работает. Так что, очень просто.
– Почему не работает? Давно?
– Да уж с месяц, наверное… А почему… Кто ж ее знает. Сломалась… Вообще, это к директору надо…
– Ой, мальчики-девочки, – встрепенулась Людмила Петровна, – уже больше месяца. Больше. Помните? Помните, да? Ну, когда у нас льва украли? Прямо из витрины! С выставки! Сигнализация не сработала. Вот с тех пор и не работает!
– Льва?
– Ну, фигурка такая, – пояснил Лёлик. – Статуэтка. Собачка Фу.
– Так лев или собака? – запутался капитан.
– Лев!
– Собака! – оба ответа прозвучали почти одновременно.
– Вообще-то, лев, – согласился Лёлик. – Только это не лев, а собака. Хотя, на самом деле, лев… Ну, как бы объяснить… Вы же знаете, что буддизм к нам пришел из Китая, в Китай – из Тибета, в Тибет – из Индии. А там львы считались священными животными, небесными охранниками Будды…
Капитан прикрыл глаза, подавив в себе горячее желание пристукнуть и этого зануду-очкарика, и заполошную старушку. Лёлька тем временем продолжал:
– В Китае же львов никогда не водилось. Поэтому там их стали называть собаками. Имя Будды произносилось как «Фо», потом трансформировалось в «Фу». Так и получилось, что изображается лев, а считается, что собака. Священная собака Будды…
– Тогда тревожной кнопкой охранное агентство вызвали. Ребята приехали, а этот… ну, вор, в общем, в туалете закрылся, – воспользовавшись паузой, затараторила Людмила Петровна. – Они пока дверь выломали, он уже через окно убежал. Они и милицию вызывали сами. Вроде бы поймали его потом. Только льва так и не нашли.
– Значит, месяц назад…
– Больше месяца!
– …больше месяца назад из музея были похищены ценности. Я так полагаю, ваш этот лев, который собака, имеет немалую материальную ценность?
– Ну да. Как любой антиквариат, несмотря на то, что из какого-то самого простого сплава сделан. Да еще по фен-шую считается мощным защитным талисманом и…
– Фен-шуёвые заморочки мы пока обсуждать не станем… Сегодня опять у вас что-то искали…
Лёлькино сердце ёкнуло и подпрыгнуло прямо к горлу. В висках застучало. Он помедлил, но потом все-таки решился:
– Не только сегодня. Позавчера – нет, третьего дня – тоже. В хранилище металла. Что-то искали…
– И вы все даже предположить не можете, кто?
– Начальство считает, что я, – обреченно признался Лёлик.
– Ой, знаете, он у нас такой рассеянный, такой неорганизованный… – попыталась вклиниться Людмила Петровна, но капитан, не отрывая тяжелого взгляда от молодого человека, жестом велел ей остановиться.
– А это не так?
Лёлик отрицательно помотал головой:
– Это не я.
– Лёличек – мальчик болезненный. Бабушка его, моя давняя приятельница, так за него беспокоится, так беспокоится, просила приглядывать… – тарахтела старушка. Оленька заинтересованно слушала.
– Ну да кто ж еще-то? – это уже Любовь Михална материализовалась. Стояла в дверном проеме, привалившись к косяку, с видом грозного судии, И когда только успела подкрасться… – Окромя вреда, никакой от него пользы! Раздолбай!
Капитан устало потер лицо руками.
– Милые дамы, вы бы не могли заняться какими-нибудь другими своими делами? Если мне понадобятся ваши комментарии, я приглашу…
Любовь Михална фыркнула, Людмила Петровна обижено поджала губы, Оленька дернула плечами, и все трое вышли в коридор. Лёлька мысленно поаплодировал: ай, служилый, ай, молодец, хорошо послал!
– Так, сынок… А теперь рассказывай всё по порядку. И начни с того, где ты был сегодня ночью?
– Това-а-а-арищ капитан! Я, конечно, раздолбай. И провалы в памяти у меня случаются. Но чтоб такое сотворить… Это ж надо быть совсем ку-ку-с… – покрутил пальцем у виска. – Ну ладно-ладно… Дома был. То есть не совсем дома. Я с родителями живу в пригороде. Но часто у Изольды остаюсь. Вот и вчера тоже. И позавчера…
– Подружка? – понимающая улыбка никак не вязалась с жестким взглядом внимательных серых глаз.
– Бабушка!!! Изольда Казимировна Терентьева – это моя бабушка.
– Кроме нее кто-нибудь может подтвердить?
– Да мне за ночь дважды скорую пришлось вызывать. В одиннадцать и без минут два. А потом она еще подруг вызвонила. Попрощаться. Помирать собралась. До утра прощались. А в шесть за мной машина пришла… Ну, наши, наверное, уже рассказали про утренний эфир? Так вот, когда я уезжал, эти калоши еще у нас сидели. Третью бутылку вермута докушивали.
– Что, и впрямь помирала?
– Ага. Щасссс. Сколько себя помню, помирает. Каждый раз, когда кто-нибудь из подданных посмеет ослушаться. Великая артистка в ней пропала – такие спектакли закатывает… Ну, да к делу это не относится.
Лёлик похлопал белесыми ресницами. Утреннее напряжение отпустило и усталость накрыла с головой жарким тяжелым одеялом. Хотелось уже побыстрее закончить этот бессмысленный разговор. Как подруг зовут? Э-э-э-э… Алевтина Авросимовна и Анжелика Феоктистовна. Нет, он не издевается. Лет за семьдесят, наверное. Ну, может, по паспорту она и не Анжелика, но все ее так зовут. Нет, фамилий не помнит, и где живут, не знает – надо у бабки спрашивать. Адрес? Да, конечно… Телефон… Нет, на работу его взяли без бабкиной протекции. Это уже потом выяснилось, что с Людмилой Петровной они когда-то сто лет назад знакомы были. Нет, ни с какой коммерческой деятельностью работа отдела не связана. Это у рекламщиков… Нет, к финансам тоже никакого отношения… Нет, посторонние к ним в фонды не ходят. Не положено по инструкции. Это у экспозиционеров проходной двор… Нет, в коллективе конфликтов не было. Ну как не было… Скажем так, всё в штатном режиме. Ничего экстраординарного… У него лично? Нет, врагов у него нет. Нет… Нет, конечно… Нет… Нет… Нет… Да, он не очень хорошо себя чувствует… Вчера? Да, вчера он был на работе. С девяти и до… ну, часов до семи, наверное – посмотрите в журнале на вахте, там время сдачи ключей фиксируется. Да уходил он последним. Да, всё было в порядке. Нет, никого посторонних в помещении музея не видел…



