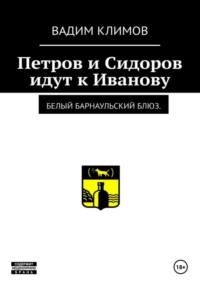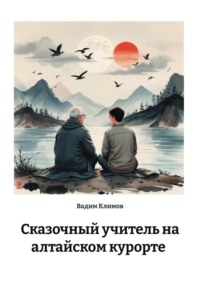Полная версия
Господа хорошие

Вадим Климов
Господа хорошие
Деревня
На путешественника, повернувшего с Павловского тракта в сторону леса, наваливается сумрачная тень корабельных сосен, и лишь солнечные пятна раскрашивают капот автомобиля и дорогу. Если недавно прошел дождь, то солнце блестит в лужах, а проезжая зимой, то на белом снегу голубыми разводами сверкают солнечные зайчики. Почему голубыми? Потому что в этих местах снег, как облачко на детском рисунке – безукоризненно чистый.
Бетонная дорога в полторы полосы прямой линией пересекает лес и выходит в поле. Старый, крепкий асфальт за многие годы немного прогнулся, но не треснул.
Ехать по такой дороге большое удовольствие. Спустившись в овраг, путник проезжает мост через прозрачный ручей, а потом поднимался в гору, откуда открывался вид на грандиозный простор. Ям на дороге нет, и можно разогнаться, но водители предпочитают соблюдать скоростной режим и любоваться природой.
Вправо от дороги уходит поле. Весной оно вспахано, чернеет, а вдали, создавая внутрикадровое напряжение, пылит трактор. Над пригорком кружатся птицы. Грачи садятся в борозду за плугом или бороной, за сеялкой или веялкой и выискивают червяков. Насытившись, они взлетают суетливой гурьбой. А черные огромные вороны, сидят на старых, густо измазанных дегтем телеграфных столбах и громко каркают.
После того как появляются всходы, поля становятся веселенькими и зеленеют до самого горизонта. Яркое солнце, яркое небо, яркая зелень яровых,– от такого контраста режет глаза, но смотреть приятно.
К осени, зерновые набирают вес и желтым морем колышутся на ветру, глядеть на это богатство необыкновенно радостно. Каждый колосок ощущается как самородок, приносящий ощутимую копейку в копилку. Когда хозяйский водитель Вася едет из города, как все называют уездную столицу, он обязательно останавливается в одном особенном месте и смотрит в поле.
– Хлеб, – выделяя «б», произносит он, мочится под колесо и едет дальше.
Трактористы из Нижней Ивановки, выезжая в поле, берут горсть земли, перетирают ее руками, и, отряхнув их о штаны, с вырывающимся из сердца криком: Погнали! – вскрывают землю, нанося ей неглубокий шрам. Народ называет это – первая борозда.
А осенью приходит пара уборки. Пыль над полями стоит, как песчаная буря в кинофильме о бедуинах в Сахаре. Кажется, что из этой бури выскочит Лоуренс Аравийский на белом верблюде. Но выезжал красный комбайн, из него выскакивал чумазый комбайнер и, размахивая руками, без мата накидывался на водителя грузовика, у которого из кузова просыпалось полведра зерна.
–Ля-ля-ля, – орал комбайнер. – Пи-пи-пи, это же хлебушек. Смотри, – выбив соплю в межу, комбайнер, как капитан крейсера, залазил в кабину и плавно выводил машину на следующий круг.
Чтобы крестьяне лучше работали, их умело мотивируют. Каждому трактористу на день работника сельского хозяйства дарят капитанскую фуражку с голубым околышем.
Зимой поля вспахивают сугробами. Трактор ползет по заснеженному полю, вскрывая снежный панцирь, и нагребает огромные волы, напоминающие волну-убийцу, пересекающую океан.
Симпатичный и суровый тракторист Петр, имеющий диплом техникума по специальности «ремонт двигателей внутреннего сгорания», мечтал выехать в поле, а не лежать в гараже под ржавым «Кровцом». В чистом поле, в мороз, глядя в бесконечное синее небо, он, выдавливая полный газ на гусеничном тракторе, и тащит снежный плуг, заворачивая валы. Петр хотел взять зятя, посадить его за руль своей нафаршированной «Нивы» и разогнаться по полю. Прицепившись веревкой к машине, стоять на сноуборде собственной конструкции и перепрыгивать с вала на вал, как серфер с волны на волну.
В этих местах зима сияла и сверкала все положенные три месяца: декабрь, январь и февраль. В марте снег проваливался, мутнел, появлялись розовые разводы, и начинало пахнуть весной.
По другую сторону от дороги, ведущей от города Барабульска в Главную Ивановку, были река с лугами, пруды и сады. Когда цвели сады, они сияли белым облаком радости на фоне дальнего темного леса. И пахло, как в раю. Плодовые деревья отражались в прудах, создавали многомерное за зеркальное пространство. А когда цвет облетал, пруды покрывались нежными лепестками, грустно умирающими на поверхности воды, легкий ветерок гонял их кругами и прибивал к берегу. На пляже, куда пастух Кирилл выгонял коров, в тине, перемешанной с говном, заканчивалась воздушная жизнь цветов.
Созревая, наливались яблоки, груши, сливы, абрикосы. Они раскрашивали сады в разные цвета. Бригады садоводов снимали урожай, бережно складывали плоды в корзины и пересыпали в телеги. Они как муравьи, целый день передвигали лестницы, поднимались, спускались, нагружали, таскали. И не уставали любоваться красными яблоками, темно-зелеными грушами, синими с седым отливом сливами и оранжевыми абрикосами.
Стадо пестрых коров после водопоя, истоптав пляж у деревенского пруда, входило в сад, и не было краше этой картины. Коровы лежали в тени деревьев, и жевали, производя литры молока. Их розовые вымя волочились по земле, и доярки стонали от восторга. Заслуженная работница фермы Вера прикидывала, сколько тон молока она сможет надоить, и какую получить премию. В прошлом году, когда на Ивановку обрушилась засуха, она смогла надоить рекордные семь тысяч литров. В этом году при благоприятных условиях она брала обязательства надоить восемь тысяч литров с одной коровы, а у нее их двенадцать голов.
Поправив белую косынку, обстучав с сапога навоз, Вера хватала в одну руку пустой сорокалитровый бидон, в другую – ведро с теплой водой и кричала:
– Ну, айда сиськи мыть! – и шла на трудовой подвиг.
А какая деревня без босоногих мальчишек, бегущих за огородами по утоптанным за столетия тропинкам. В драной майке, трикошках, вытянутых на коленях, в выгоревшей бейсболке с эмблемой завода «ЗИЛ» или футбольного клуба «Зенит» они бегут к реке, где в заводи, голыми руками ловят под корягами склизких сомов.
Выше по течению реки, на берегу с удочками в руках сидят знатные ветераны в капроновых шляпах, полвека назад завезенных в сельмаг. Такой шляпе ничего не сделается, если она не попадет в костер. Бывали случаи, когда игривый ветерок, налетая из-под тучки, срывал, бросал ее в огонь. Шляпа скукоживалась, старик ругался, и шел в промтоварный за новой шляпой.
Ровные заборы, крашеные дома, пионы в палисадниках, звонкие крики петухов, стук молотков, разговоры баб витали над Главной Ивановкой. Деревня на 500 дворов стояла в 400 километрах от четырех полосного тракта, связывающего город Барабульск с областным центром Новослободском.
Со всех сторон, во всех красках любого времени года, это была идеальная деревня. В центре ее, рядом со школой, выдержанной в строгом стиле позднего, начала первой четверти ХХ века досоветского кирпичного зодчества, стоял небольшой детский сад, выкрашенный в абстрактные голубые и розовые пятна. На крыше детского учреждения, на декоративной трубе было прилеплено деревянное тележное колесо, на краю которого стоял жестяной аист с ярко-красным клювом.
Чуть дальше в небольшом сквере с клумбами и живой изгородью, в уютном особняке расположилась администрация бывшего колхоза «Красный Ивановец» имени «Первого слета пионеров-героев». Теперь на вывеске справа от двери золотыми буквами на черном мраморе было выбито «Научно-экспериментальный, историко-культурный, природно-ноосферный заповедник «Красный Ивановец». Но ивановский народ называли ее просто – контора.
Напротив здания администрации на постаменте стоит памятник герою труда Георгию Иванову, а сразу за ним – большой магазин с огромными стеклянными витринами, в которых, как на выставке достижений народного хозяйства, висят связки колбас, громоздятся пирамиды сыров, причудливой башней составлены мыло и стиральные парашки. В соседней витрине сидит манекены с вопросительно вздернутыми руками. Они как бы просят:
– Остановись, посмотри на меня, делай, как я.
И люди останавливались, женщины разглядывали платья, мужчины пиджаки. Дети крутились у витрины, в которой были выставлены игрушки: медведи на велосипеде, обезьяна с гранатой, куклы Маши и Наташи, железная дорога компании КВЖД с двумя составами, солдатики всех армий мира и сорок моделей автоботов. А также человек-паук и все супергерои вселенной Marwe.Выпив кваса в соседнем ларьке, взрослые мужчины подходили к витрине и с мечтой, устремленной в прошлое, глазели на красоту.
– А у нас были автоматы и деревянные машинки, – вспоминал машинист котельной Осип Осипович и добавлял. – Зашибись.
Каждый месяц после зарплаты, полученной в конторе, он заходил в магазин и покупал дочке куколку или сказочную зверюшку. Осип очень любил дочь и был счастлив в семейной жизни.
Если смотреть с площади на запад, вдоль Большой сухой улицы на холме, в окружении дубов было видно господский дом. Между собой деревенские говорили: усадьба. Дом с колоннами, с высоким крыльцом, с широкими балконами и круглым окном в мезонине был выкрашен в теплый персиковый цвет. Он так правильно и удобно расположился, что редкий приезжий, попавший в Главную Ивановку, замечал его. А когда ему показывали, где живет хозяин, воспитанный гость приседал и присвистывал, а некультурный человек мог и блякнуть от неожиданности.
Ивановка Главная потому так именовалась, что в радиусе ста километров от нее были еще Ивановка Нижняя, Ивановка Старая и Дальняя Ивановка. Все они входили в образцовое хозяйство-миллиардер «Красный Ивановец».
История Ивановок уходила в середину 16 века, когда очередной русский царь, тишайший или милейший деспот, грозный или кровавый, а, может, просто первый, второй и так далее, наделил поместьем бравого война Георгия сына Иванова. Отвели ему земли в стороне от дороги, на отшибе в самой далекой провинции, чтобы стоял он на границе и не пускал врагов супостатов. Расширяясь, государство отодвигало границы, и поместье Иванова оказалось в центре самой исконной глуши, на краю обитаемого мира.
Четыреста лет ничего не менялось в этих местах. Раз в сто лет, следующий по наследству барин, перестраивал господский дом по новой моде, вел хозяйство, отправлял сыновей на войну, выдавал дочерей замуж, и время тянулось, как шерстяная нить в прялке Марфы-прядильщицы.
Всю до советскую историю Ивановки можно узнать в музее, открытом в пристройке к колхозной конторе. Там в картинках представлена прекрасная сказка о том, как все было хорошо, как под отеческой заботой помещиков Ивановых жил в полном достатке русский крестьянин, ел от пуза и зимой носил полушубок. Летом бабы наряжались в сарафаны, а мужики в рубахи, расшитые гладким узором. В другом зале музея большая экспозиция была посвящена трудовому подвигу ивановских крестьян в светлое время от красного террора до наших дней. Кончается музейная экспозиция рассказом о Георгии Михайловиче Иванове, первом герое труда Барабулского района Новослободской области, пожизненном директоре «Красного Ивановца».
Родился он в девяностом году девятнадцатого века, был третьим сыном барина Михаила Георгиевича, в десятилетнем возрасте поступил в Барабульскую гимназию. В двадцать четыре года ушел добровольцам на Германскую войну. Весной семнадцатого в звании подпрапорщика, с ранением в ногу вернулся в родную усадьбу. Жаль, что два его брата сгинули в горниле битв. Один сложил голову в Брусиловском прорыве, а другой, бездетный, с последними частями барона Врангеля эвакуировался из Крыма в ноябре 20 года и в лесу Амазонки умер от укуса ядовитой лягушки.
Собрав отряд солдат, участников войны, Георгий выставил на дороге пулеметы, на преобладающей высоте поставил артиллерию, купленную им по бросовой цене у отступающих Белочехов, и был готов к обороне.
Деревенские мужики поддались общему бузотерскому настроению, хотели было спалить барскую усадьбу, но к ним на вороном коне выехал, тогда еще бодрый барин Михаил Георгиевич и громко сказал, чтобы слышал последний пастух на лугу:
– Холопы мои родные, если что задумаете гадкое, да не дай Господь сотворите, всех от первого до последнего вот этой рукой запорю. Никого не пощажу, от малого дитя до последней старухи буду пороть до смерти. Берегите барина: будет барин, будет у вас добро, а без барина пойдете по миру нищими голодранцами. Даже не вздумайте! -
Конь его вороной встал на дыбы, взгляд барина прожег дыру в красном знамени, и крестьяне упали на колени.
– Помилуй, батюшка Михаил Георгиевич, разве можно так стращать, ноги отнялись, как работать будем.
– Мамой клянусь, – взмолился староста Захар. – Будем ценить и оберегать. Прости барин, еслив чо не так. Живота за тебя не пожалеем.
И все ивановские запели:
– Не пожалеем, батюшка!
Прогремели годы Гражданской войны, ивановские мужики смогли под командованием младшего отпрыска Иванова отбиться от белых, от красных, от интервентов, от партизан, пришедших из соседней губернии. Выстояли в суровую годину. Почуяв вовремя, куда дует ветер, Георгий Иванов вступил в партию и первый в уезде объявил Ивановку Красной коммуной.
И потекла новая жизнь. На школу повесили красное знамя, на контору новую вывеску, через дорогу перекинули транспарант «Славься, власть Советов!» Учителя вступили в партию, воспитатели детского сада в комсомол. Дети стали пионерами и кричали, стоя на линейки, речевки:
– Да здравствует дело Ленина и Сталина, на веки веков!
В эпоху тотального колхозного строительства из числа самых грамотных крестьян отобрали лучших и отправили учиться в город. Самого умного выбрали секретарем партийной организации и выделили ему мотоцикл, чтобы он гонял на нем между всеми Ивановками.
В тридцать седьмом умер старый барин Михаил Георгиевич. В старости он был добрым дедушкой, любил сидеть на крыльце усадьбы, гладить кошку и вглядываться подслеповатыми глазами, кто там бредет по дороге. Похороны были скромными, речей почти не говорили, женщины плакали, затыкая себе рты концами черных платков.
Мужчины взяли гроб на плечи и три версты несли на кладбище. Древний склеп дворян Ивановых принял тело барина, как родная мать встречает дорогого сына, вернувшегося домой. Три дня траура закончились с приездом начальника областного НКВД. Товарищ Томашевич стаканами пил горькую за упокой души бывшего дворянина, не дождавшегося ареста и расстрела. А потом чекист резко собрался и умчался на экспроприированном у сахарозаводчика Полозова автомобиле.
Колхозники устроили митинг во славу чекистов, отслужили партийное собрание и постановили: «направить в областное НКВД продовольственную помощь в виде копченой свинины, сыра, соленой рыбы из барских прудов, сливового варения и абрикосовой настойки».
Когда до Ивановки дошли слухи, что Томашевич объявлен врагом народа, мужики по барскому приказу, собрали следующую посылку для сирот и беспризорников и отправили ее в сопровождении комсомольцев-добровольцев в областной партийный комитет.
В том же тридцать седьмом году у Георгия Михайловича родился сын Андрей.
Поначалу не просто складывалось личное счастье ивановского барина. Война и революция не дали времени свить семейное гнездышко. Свою Надю он встретил в голодном послевоенном двадцать пятом году на станции Арбузовка, куда прискакал со своим отрядом отбивать у взбунтовавшихся иноверцев, торгующих восточными специями, паровой двигатель английской фирмы «Смит и сыновья».
Порубав шашками бунтовщиков, Георгий в конце перрона заметил прислонившуюся к стене пакгауза женщину в потертом пальто с лисьим воротником.
Женщина качалась на легком ветру. Из-под шляпки торчали криво обстриженные волосы, весь вид ее умолял: пристрелите, не мучайте меня.
Бывшая студентка Смольного института Наденька, дочь промышленника, владельца обширных земель в туркестанских территориях, депутата государственной думы графа Владимира Александровича Саранского сбежала из тифозного барака, потому что хотела умереть на свежем воздухе.
При переходе границы в южном Памире ее отца пограничники затравили псами. От всех дел его жизни ни осталось ничего, кроме нескольких картин неизвестных европейских мастеров и ювелирных украшений, попавших в хранилище государственного музея Вышнего Урюпинска. Квартиру в Петербурге экспроприировали для комитета по физической культуре, заводы перешли в пользование наркомата промышленности, пароходы танкерного флота приспособили для перевозки заключенных.
Надежда Владимировна, еще в гимназические годы прониклась идеями просвещения, и после октябрьского переворота вынуждена была записаться в движение тысячников, и отправится учительствовать в степях северного Приаралья. Кишлак, в котором она преподавала русский язык и литературу, разграбили басмачи. Она чудом уцелела, спрятавшись в куче кизяка. Городская девушка, познавшая за полгода азы выживания в знойной степи ледяной зимой, под разрывающим грудь ветром преодолела седую полупустыню с одним узелком, в котором бережно хранила Манифест Коммунистической партии и Библию. Материнский медальон и часы отца она носила на себе, в потайном кармашке, пришитом внутри корсета. Это были символы ее прошлой счастливой жизни в благородном обществе, в доме на набережной Мойки.
Когда она добралась до людей, на нее даже не лаяли голодные собаки. Выпив воды из колодца, Надя упала на крыльце бывшей богадельни, перепрофилированной новой властью в госпиталь для раненых красноармейцев. Выходил ее санитар, фамилию бледного юноши она не спросила. Двадцать один день он прятал ее в бельевой каптерке от легкораненых красногвардейцев. Когда Надя смогла стоять, он ее выпроводил и не сказал своего имени, чтобы ненароком, не выдала его на допросе в контрразведке.
На станции Арбузовка Надя хотела попасть в состав, идущий на запад. Она представляла себе, что сможет устроиться в столице, где остались не расстрелянные знакомые. Но силы ее покинули, падая в обморок, она в расплывающейся реальности увидела всадника.
Георгий, наскоку, успел схватить девушку за воротник пальто и, как куль с овсом, перекинуть впереди себя. Придерживая умирающую, он пришпорил лошадь и, насвистывая удалую песню разбойника, поскакал к бывшему тюремному лекарю, жившему при развалившемся царском остроге.
Надю помыли, отогрели, привели в чувства и, накрыв тулупам, повезли в Ивановку.
Семья снисходительно приняла девушку, но узнав ее родословную, Иванов-старший стал готовиться к свадьбе, которая не заставила себя ждать. Спасенная дрожала перед алтарем, как осиновый лист. В васильковых глазах светилась надежда на счастливую старость, перемешенная со страхом за страну.
Жизнь в Ивановке была сытной, Надежда Владимировна, молодая хозяйка, как стали называть ее деревенские, раздобрела и родила девочку, белокурого ангелочка, но ребенок не выжил.
Георгий не перестал любить и лелеять Надежду Владимировну. В семье царило уважение и терпение. Надя обращалась к мужу только на вы, а он к ней:
– Милая, дорогая, Надюшенька. Наденька, лучик мой ненаглядный.
– Любят они друг друга до глубины души, – говорила горничная Инесса на вечерках, выпив яблочной самогонки.
Ивановские девахи слушали ее, открыв рот, но не всему верили. И как можно было поверить, что благородные могут заниматься этим при таком почтении друг к другу. Ведь никто из колхозников не видел, чтобы Георгий Михайлович даже косо взглянул на свою любезную Надежду Владимировну.
– Там такая страсть, девки, – делилась барской тайной Инесса. – Такая, что стены дрожат. Когда они после ужина по светлым праздникам уходят в спальню, кажется, Господь их слышит.
Инесса, пользуясь благосклонностью хозяйки, в сладкие майские ночки приводила в сад ухажеров послушать, как надо любить. Парни не выдерживали и убегали в амбар, куда медленно, с достоинством входила Инесса и плюхалась на душистое сено.
– Девки, это божественно, это как Шаляпин в Гранд Опера, только с таким счастьем, что ни в сказке сказать, ни пиром описать, – восхищалась горничная. – Она так стонет, так громко стонет, что плафоны в ночниках трескаются. А он с ней соглашается. Его басовитое: Да, да, да, дорогая, – откалывает изразцы на печи.
И старания четы Ивановых не прошли даром, сыночек получился на зависть врагам. Андрей рос крепким, смелым, очаровательным сорванцом. Отец его обожал, а мать берегла, как волчица оберегает волчат. Однажды она криком остановила трактор, сорвавшийся с тормозов.
Тракторист Петр Петрович поставил машину на бугор, чтобы она легче заводилась, и пошел выпить кружку кваса в колхозную столовую. Деревенские мальчуганы, выгоревшие на солнце, как растрепанные воробьи, крутились вокруг нового красивого иностранного трактора. Кто-то из них дернул за ручной тормоз, или сломался механизм, но трактор покатился. Пятилетний хозяйский сын, смотрел на это чудо, выпучив голубые глазенки. Машина набирал скорость, и через мгновение должна была раздавить ребенка.
Хозяйка Ивановки, увидев это, так громко взвизгнула, что у трактора лопнула передняя шина, и он резко отвернул. Схватив сына на руки, барыня метнула глазами молнии во все стороны. Буфетчица в столовой спрятались под стол, а посетители смылись через пожарный выход.
После этого случая жители четырех Ивановок хлебнули горя. А для трактористов ввели обязательное получение прав на вождение тракторов. И детям с детского сада стали объяснять правила дорожного движения.
Суровые дни миновали. Пришла война. В три смены трудились колхозники «Красного Ивановца». Повышали надои, намолачивали сверх нормы зерновых, добывали и сдавали. Мужчины, собрав волю в кулак, уходили в Красную армию. Женщины плакали и продолжали работать. Не все вернулись с фронта, погибшим поставили памятник на высоком берегу реки, на фоне синего неба, с видом на темный лес.
В родительскую субботу деревенские жители приходили помянуть павших героев, на этих молебнах председатель говорил душевную речь и награждал премией вдов и сирот. Они, кланяясь в ответ, клялись беречь и приумножать.
Сын старого старосты, безногий Захар Захарович, сменивший отца на ответственном посту, от всего коллектива заверял Георгия Михайловича:
– Прости, председатель, позволь слово молвить. Да чтоб мы, рабы божьи, чадо твои, если что по недосмотру не доделали, ты не держи в себе, сразу скажи! Мы всем народом встанем за тебя, за супругу твою, матушку нашу Надежду Владимировну, за сынка твого встанем. Не вели казнить, прими в благодарность от колхозников обязательства выполнить пятилетний план за четыре года. Правильно я говорю?– обращался он к народу, выставив вперед кулак, в котором была зажата дорогая драповая кепка-восьмиклинка.
Народ хором вздыхал:
– Да здрав будь, барин-председатель!
После смерти Сталина, в клубе организовали концерт в честь того, что пронеслось лихолетий мимо, не затронула косой репрессий, не схватили опричники тирана людишек Ивановских.
И началась в колхозе еще более счастливая жизнь, посеяли кукурузу,
пристроили к свиноферме мясокомбинат, наладили производство Баварских сосисок, Краковской колбасы, Пармской ветчины. Купили новенький рефрижератор на базе автомобиля «Колхида» и повезли деликатесы в большие города. При МТС открыли профессионально техническое училище, а на молочной ферме запустили новый цех по производству йогурта и мороженного пломбир. На заработанные деньги в Дальней Ивановке для тружеников села построили санаторий-профилакторий на 300 мест с медицинским персоналом.
В середине шестидесятых начались проблемы, затруднился сбыт готовой продукции и в некоторых сферах производства наступил застой. Умудренный опытом Георгий Михайлович Иванов, награжденный к тому времени орденом Трудового красного знамени, орденом Ленина и Золотой звездой Героя социалистического труда, понимал, что необходимо, что-то менять, но что, не мог понять. Казалось, все шло прекрасно. Модернизировали парк сельхозмашин, внедряли интенсивные методы ведения хозяйства, закупили породистый крупнорогатый скот, обновили поголовье тонкорунных овец и приобрели высокопродуктивных свиней. Построили гидроэлектростанцию, запустили новейшую систему мелиорации. Тихо, без шума открыли тепличное хозяйство.
В опытных полях, по настоянию Надежды Владимировны, выращивали лекарственные растения, а в Старой Ивановке на новейшем импортном оборудование, приобретенном на Американской ярмарке, делали лекарственные пилюли.
Но не было спокойно на сердце депутата Верховного совета товарища Иванова, он понимал, что грядет смена поколения. Он ждал сына. Андрей должен был приехать на каникулы. Семейная надежда на светлое будущее учился на экономическом факультете в сельскохозяйственном институте. Он переходил с курса на курс, оставаясь в середнячках. Андрею в городе было откровенно скучно.
– Отец, – жаловался он. – Тесно там, в общаге комнатки маленькие, коридоры узкие, профессора в институте трусливые, улицы в городе грязные, дома облезлые, трамваи громкие. Нет размаха, как у нас в Ивановке. Глаз все время упирается в стену. Закончу эту шарашкину контору и сразу вернусь. Эх, развернусь.