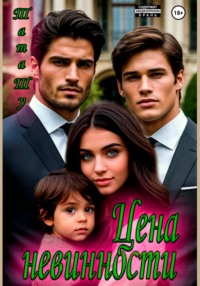Полная версия
Развод. Дно отчаяния
В этом году, как и в предыдущие, он отклонил все предложения встретить Новый год. Единственное место, где он мог хоть как-то забыться, был его загородный дом. Там, в полной тишине, наедине с заснеженным лесом, ему не нужно было притворяться, не нужно было отвечать на сочувствующие взгляды. Он мог просто молчать. В багажнике его внедорожника лежал скромный запас продуктов, бутылка дорогого коньяка – дань прошлой традиции, которую он уже не мог ни соблюдать, ни нарушить. Он винил себя. Эта мысль была его вечной, неотступной спутницей. Он должен был лететь рейсом на день раньше. Он задержался в командировке, а они так ждали его, рвались встретить в аэропорт. Его Катюшка за рулем, счастливая, нарядная, и Степка на заднем сиденье, размахивающий самодельной открыткой… Он торопился, они спешили ему навстречу. И словно сама судьба свела их на том роковом обледеневшем шоссе с пьяным грузовиком. Один из лучших хирургов, спасший сотни жизней, не смог спасти самых дорогих. Он опоздал. Он не успел. Он не сберег.
А потом были похороны. Два гроба. Белый, маленький, с изображением любимого мультгероя Степки, и большой, темный, в котором лежала вся его жизнь, его Катя. Он стоял, закованный в ледяную броню шока и неверия, не чувствуя ни ног под собой, ни сжимающей руки отца. Гроб опускали в землю, а он все ждал, что вот-то сейчас проснется. Что это кошмар, который рассеется от крика. Но крика не было. Внутри него была только оглушительная, всепоглощающая тишина, в которой навсегда застрял звук удара металла.
За него говорили речи, сыпались слова соболезнования, но он их не слышал. Он видел только испуганные, полные слез лица родителей Кати, смотревших на него с немым вопросом и упреком, на который у него не было ответа. Он видел бледное, искаженное горем лицо своей матери, пытавшейся его поддержать, но он отшатнулся от ее прикосновения, как от огня. Ему было невыносимо любое проявление жалости. Он ее не заслуживал. Он был виноват.
Церемония закончилась. Люди стали расходиться, бросая в его сторону украдкой взгляды, полные сочувствия и ужаса. Он остался один у двух свежевырытых могил, уходящих в сырую, промозглую землю. Кто-то из друзей попытался подойти, сказать что-то, но он лишь молча покачал головой, и они, потупив взгляд, отступили. Он простоял там до самых сумерек, пока служители кладбища не начали нервно поглядывать на него, не решаясь подойти. Моросил холодный дождь с мокрым снегом, превращающий вновь уложенную землю в грязную кашу. Он не чувствовал холода. Он не чувствовал ничего, кроме чудовищной, необратимой пустоты, которая разверзлась внутри и поглотила все – свет, тепло, будущее. Он сорвал с галстука черную траурную булавку и швырнул ее на мокрую землю. Потом развернулся и пошел прочь. Не оглядываясь. Неся в себе этот холод, эту тишину и это всепоглощающее чувство вины, которое стало его новым, единственным спутником. С тех пор он и стал тенью…
Внезапно его острый взгляд, привыкший выхватывать малейшие детали, заметил неестественный блик в кювете справа. Он притормозил. В сумерках и кружащемся снегу у обочины угадывались очертания легковушки. Машина явно сорвалась с дороги – ее развернуло и занесло в сугроб, передний бампер был смят о ствол старой березы.
«Идиоты, – с раздражением подумал Максим. – Гонят, не зная меры». Первым порывом было проехать мимо. Чужие проблемы его больше не волновали. Мир был полон страданий, он знал это лучше кого бы то ни было. Но что-то – возможно, заскорузлый, но не до конца умерший врачебный инстинкт – заставил его остановиться. Он вышел из машины, и ледяной ветер с хлопьями мокрого снега ударил ему в лицо. Подойдя к аварийной машине, он заглянул в открытое окно водительской двери. Внутри, прислонившись головой к подушке безопасности, которая сработала, сидела женщина. Без сознания. Длинные русые волосы падали на лицо, но он разглядел струйку засохшей крови, сбегавшую от виска по щеке. Лицо было мертвенно-бледным, но удивительно красивым и умиротворенным в своем беспамятстве.
Максим автоматически, быстрыми, точными движениями профессионала, проверил пульс на шее. Ритм был слабым, но четким. Дыхание поверхностное, но ровное. Он осторожно откинул ей голову назад, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей, и осмотрел рану на лбу. Неглубокая, резаная, уже почти перестала кровоточить. Скорее всего, от удара о стекло или элементы салона. Сотрясение мозга, вероятно. Но жива. Он посмотрел на пустынную дорогу, на набирающую силу метель. Ждать помощи здесь было неоткуда. Вести ее в районную больницу – значит, потратить несколько часов на путь по заметаемым дорогам.
Решение пришло мгновенно. Оно было единственно верным с медицинской точки зрения. Он открыл дверь своего внедорожника, поднял женщину на руки – она оказалась удивительно легкой и хрупкой – и уложил на просторное заднее сиденье, застеленное пледом. Пристегнул ремнями для безопасности. Затем он вернулся к ее машине, забрал сумочку и телефон. Сев за руль, поехал к своему дому. Его планы на уединенный новогодний вечер рухнули в одно мгновение. Теперь его задачей было спасти эту незнакомку. Возможно, в этом был какой-то странный, искаженный смысл. Спасать тех, кого еще можно спасти.
Глава 7.
Въезд на участок был знакомым до автоматизма. Внедорожник плавно катил по укатанной снежной дорожке, огибая заснеженные ели, и вот в оконной прорези метели проступили темные очертания большого бревенчатого дома. Максим заглушил мотор, и наступила оглушительная тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра и скрипом снега под его тяжелыми ботинками. Он быстро вышел, распахнул заднюю дверь и осторожно, стараясь не потревожить, извлек свою бесчувственную ношу. Женщина в его руках была легкой, почти невесомой, словно хрупкая птица, попавшая в бурю. Он бережно прижал ее к себе, чувствуя холод ее щеки сквозь ткань своего пальто, и направился к крыльцу.
Дверь открылась с тихим щелчком, впуская внутрь клубящуюся ледяную поземку. Он вошел в просторный холл, где пахло деревом и нежилым помещением. Ногой нащупал выключатель. Загорелся мягкий свет, выхватывая из полумрака массивные балки потолка, стены из оцилиндрованного бревна и грубоватую, но прочную мебель.
Не раздумывая, Максим прошел в гостиную, где в полутьме стоял широкий кожаный диван. Он уложил незнакомку на мягкую поверхность, поправив ее голову на подушке. Ее лицо в свете настольной лампы казалось мраморным и безжизненным, и только слабый пульс на шее, который он машинально перепроверил, свидетельствовал о том, что в этом хрупком теле еще теплится жизнь. Он действовал быстро и четко, как на дежурстве в приемном покое. Скинул свое промерзшее пальто, нашел в гардеробной тяжелую овчинную шубу – реликвию из прошлой жизни, которую использовал теперь как одеяло. Снял с незнакомки пуховик и ботиночки. Тщательно, почти по-военному, закутал женщину, убедившись, что ее ноги и плечи надежно укрыты от холода.
Затем подошел к камину. В очаге уже были аккуратно сложены поленья и растопка. Спичка чиркнула с сухим щелчком, пламя лизнуло щепки, затрещало и стало жадно пожирать сухую древесину. Вскоре в гостиную разлилось теплое, живое пламя, заставляя причудливо танцевать тени на стенах. Оранжевые блики запрыгали на бледном лице незнакомки, и ему на мгновение показалось, что в щеках проступил слабый румянец.
Он отступил на шаг, оценивая обстановку. Пациент стабилен, в тепле, в безопасности. Острая фаза миновала. Теперь нужно было решить вопрос с ее машиной. Оставить разбитую иномарку на обочине дороги – значит обречь ее на разграбление или создать аварию для других участников движения, когда метель окончательно заметет трассу.
Максим достал из кармана телефон незнакомки. Экран был заблокирован. Он положил аппарат на журнальный столик рядом с ее сумочкой. Затем набрал номер по памяти.
– Сергей? – пробасил он, услышав в трубке хриплое «Але!». – Это Логинов. Извини за беспокойство. К тебе дело. У меня на трассе, у третьего поворота, в кювете машина. Иномарка, серебристая. Да, авария. Владелица у меня, жива, все в порядке. Нужно ее оттуда убрать. У тебя же трактор с лебедкой? Можешь зацепить и оттащить ко мне на участок? Кину тебе за работу и за хлопоты.
Услышав согласие соседа, всегда радующегося возможности подзаработать, Максим кивнул сам себе и положил трубку. Сергей жил в ста метрах от Максима, он справится быстро.
Он еще раз взглянул на женщину на диване. Она лежала неподвижно, лишь грудь едва заметно вздымалась под тяжелой шубой. Камин потрескивал, наполняя комнату уютным теплом, резко контрастирующим с воем метели за окном. Его план на одинокий вечер с коньяком и тихим отчаянием рухнул. Вместо этого его ждала ночь дежурства у постели незнакомки, чье появление в его жизни было столь же внезапным, сколь и тревожным.
Накинув пальто, он вышел из дома, чтобы встретить Сергея и указать ему путь. Метель, казалось, только набирала силу.
Сознание возвращалось к ней медленно, через толщу ваты и боли. Сначала она почувствовала тепло. Потом – мягкость под собой. И тишину. Глухую, абсолютную, оглушительную тишину, нарушаемую лишь потрескиванием поленьев где-то совсем рядом.
Она лежала не в машине. Она лежала на широком диване, укутанная в тяжелый, пахнущий древесиной и чем-то еще, незнакомым, тулуп. Над ней был не знакомый потолок ее квартиры, а темные, массивные деревянные балки. Воздух был густой, наполненный запахом печного дыма. Боль во всем теле была глухой, ноющей, но не острой. Она попыталась приподняться на локте, и ее взгляд упал на высокое окно. За ним бушевала метель, заваливая снегом темный лес, но здесь, внутри, было тихо, тепло и безопасно. Она была в незнакомом загородном доме. И была абсолютно одна. Или нет?
Внезапно память ударила обжигающей волной. Вихрь снега, неконтролируемый занос, страшный удар, оглушительный грохот и та самая, ослепительная вспышка животного страха. Она сжалась под шубой, сердце заколотилось, отгоняя остатки забытья. Сознание окончательно вернулось к ней, ясное и тревожное. Где она? Кто ее привез сюда?
В этот момент снаружи донесся низкий, утробный рокот двигателя и скрежет металла. Даша замерла, прислушиваясь. Это был звук трактора. Он работал где-то совсем близко, возможно, у ворот участка. Она услышала, как мужские голоса, заглушаемые ветром, перекрикиваются короткими, деловыми фразами. Потом послышался скрежет лебедки, тяжелый скрип, и наконец трактор, прохрипев, замолк. Машина тронулась и вскоре затихла в отдалении.
Воцарилась тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра и потрескиванием огня в камине. Даша чувствовала каждое биение своего сердца. Кто эти люди? Что они делали?
И тут тяжелая входная дверь открылась и тут же захлопнулась, заглушая вой метели. В холле послышались твердые, уверенные шаги, от которых слегка вздрогнули половицы. Шаги приближались к гостиной. В проеме появился мужчина. Высокий, широкоплечий, он словно заполнил собой все пространство. Он сбрасывал с плеч темное зимнее пальто, и под ним угадывалась мощная спортивная фигура. Его волосы были густыми, темными, почти черными, и на них блестели тающие снежинки. Лицо с резкими, сильными чертами было отмечено усталостью, а на щеках и подбородке темнела легкая, густая небритость, придававшая ему суровый, почти диковатый вид. Но больше всего Даша поразили его глаза. Карие, глубоко посаженные, они смотрели на нее с холодным, пронзительным, колючим вниманием. В них не было ни жалости, ни тепла, лишь сосредоточенная оценка и тяжелая, утомленная серьезность человека, привыкшего нести груз ответственности и видеть чужие страдания. Он остановился в нескольких шагах от дивана, не пытаясь приблизиться, давая ей возможность осмотреться и привыкнуть к его присутствию. Его взгляд скользнул по ее лицу, будто фиксируя возвращение сознания, проверяя состояние.
«Врач», – почему-то сразу подумала Даша, уловив в его позе, во взгляде что-то профессиональное, отстраненное. Они молча смотрели друг на друга и только треск поленьев в камине нарушал тяжелое молчание. Его появление в этой заснеженной глуши казалось как минимум странным, как максимум – пугающим. Но в его сдержанности не было угрозы. Была лишь всепоглощающая тишина, которая их окружала и, казалось, навсегда поселилась в его глазах. Молчание в комнате было густым и звенящим, нарушаемым лишь потрескиванием огня и завыванием метели за стенами дома. Две пары глаз встретились в этом полумраке, и между ними мгновенно пробежала невидимая, но ощутимая искра. Древний, как сам мир, инстинкт узнавания, притяжения, вспыхнувший вопреки всему – боли, шоку, ледяным стенам вокруг их сердец.
Он увидел не просто пострадавшую. Из-под бледности, следов слез и крови на виске на него смотрело лицо невероятной, одухотворенной красоты, отмеченное печатью недавно пережитого страдания и странного, почти неземного спокойствия. В ее широко распахнутых глазах, цвета морской воды в пасмурный день, читался не только испуг, а еще глубокая, всепонимающая боль и тихая сила. Она была похожа на изящную, хрупкую статуэтку, отлитую из самого чистого серебра, – разбитую, но бережно собранную опытным мастером. И от этого ее хрупкость казалась обманчивой, тая в себе невероятную прочность.
Она увидела не просто спасителя. Перед ней был мужчина, в котором чувствовалась скрытая мощь и первозданная, диковатая сила. Его усталое, небритое лицо с резкими чертами и пронзительными глазами, в которых застыла целая вселенная боли, говорило о нем больше любых слов. Он был похож на утес, изборожденный штормами, – суровый, неприступный, но являющий собой единственную опору в бушующем море. В его сдержанности, в его молчаливой оценке сквозила не угроза, а глубокая, выстраданная ответственность.
По их жилам пробежала волна странного, почти болезненного признания. Острое, обжигающее чувство, знакомое и чуждое одновременно. Это было влечение, но не просто физическое – это было тяготение двух одиноких душ, запертых в своих крепостях из боли, неожиданно увидевших в другом родственную тень за бронированным стеклом. Мир уменьшился до теплого круга света у камина, за пределами которого бушевала вьюга.
Но ни он, ни она не подали виду. Их лица оставались масками вежливой сдержанности и отстраненности. Время, построившие между ними и миром непроницаемые барьеры, сделали их виртуозами в сокрытии истинных чувств.
Первой нарушила тишину Даша. Ее голос прозвучал тихо, немного хрипло от пережитого шока, но удивительно твердо.
– Простите, – выдохнула она, и в этом одном слове был и стыд за доставленные хлопоты, и растерянность, и благодарность. – Я… я, кажется, причинила вам много беспокойства.
Мужчина медленно сделал шаг вперед. Его движения были плавными и точными, как у хирурга или большого хищника.
– Беспокойство – это поправимо. Главное, что вы живы, – его голос был низким, бархатным, с легкой хрипотцой. В нем не было ни укора, ни раздражения, лишь констатация факта. – Меня зовут Максим.
– Даша, – так же коротко представилась она, чувствуя, как это простое действие возвращает ее к реальности. – Я вам очень благодарна. Если бы не вы…
Она не договорила, но жесткий взгляд Максима остановил ее. Он не нуждался в благодарностях.
– Не стоит. Вы в безопасности, это главное. Ваша машина уже на участке, Сергей, мой сосед, притащил ее на тракторе. С остальным разберемся утром.
Даша кивнула и сделала движение, чтобы приподняться, опираясь на локоть. Голова тут же закружилась, а тело отозвалось глухой болью.
– Мне уже лучше, я, наверное, могу…
– Нет, – его слово прозвучало не как просьба, а как аксиома, не терпящая возражений. Твердо, но без грубости. Врачебный тон, привыкший к подчинению.
– Вам нужно лежать. У вас, как минимум, сотрясение. Возможно, другие травмы. Диагноз точнее поставлю, когда пройдет основной шок.
Он подошел к дивану, но не садился, сохраняя дистанцию. Его взгляд скользнул по ее лицу, снова оценивая состояние.
– Как себя чувствуете? Головокружение? Тошнота?
– Голова немного кружится, – честно призналась Даша, опускаясь обратно на подушку. – И немного болит. Но вроде бы тошнит не сильно.
– Хорошо, – кивнул Максим, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение от ясной клинической картины. – Это нормально после такого. Нужно время и покой. Метель, судя по всему, разыгралась не на шутку. Никуда вы сегодня все равно не денетесь.
Он произнес это без эмоций, просто констатируя факт. Они были заблокированы здесь вместе – врач с неизжитым горем, и его новая, невольная пациентка, несущая в себе свое собственное, свежее горе. Две вселенные, столкнувшиеся в одной точке пространства и времени, запертые снежной бурей в одном доме, где пахло деревом, дымом и тихим отчаянием.
Глава 8.
Тишина в доме стала иной. Теперь она была наполнена не просто одиночеством, а молчаливым присутствием другого человека. Максим двинулся на кухню, скрытую в глубине дома за аркой. Вскоре оттуда донесся звук, он начал собирать что-то для ужина.
Даша лежала, укутанная в шубу, и наблюдала за его движениями. Он был сдержан и точен, без лишних жестов. Казалось, он и в своем доме движется по проложенным рельсам давно усвоенного ритуала. Ей стало неловко от этой пассивности, от осознания, что она ворвалась в его уединение и теперь заставляет его о себе заботиться.
– Максим, – тихо позвала она.
Он мгновенно появился в проеме, его брови были чуть приподняты в вопросе.
– В машине, на переднем пассажирском сиденье, лежит пакет с продуктами. Там… там есть кое-что съедобное. Может, не стоит ничего готовить?
Он молча кивнул, натянул куртку и вышел в метель. Вернулся через пару минут, отряхивая с плеч снег, с небольшим пластиковым пакетом в руке. Поставил его на журнальный столик рядом с диваном.
Даша приподнялась, достала из пакета аккуратный контейнер с салатом «Оливье» и другой, побольше, с домашними пирогами.
– Это мне… мои родные дали, – пояснила она, чувствуя нелепость ситуации. Встречать Новый год чужими салатами в доме незнакомого человека.
Максим взял контейнеры и отнес их на кухню. Вернулся с двумя тарелками, вилками и ножом. Расставил все на столике. Действия его были лишены какого-либо праздничного настроения, это была просто практическая необходимость – накормить пациентку.
Он включил настенный телевизор, спрятанный в деревянной нише. На экране бесшумно засуетились карнавальные костюмы и заулыбались ведущие. Максим убавил звук до минимума, так что доносилось лишь приглушенное бормотание, едва перекрывающее вой ветра за окном. Этого было достаточно. Телевизор был нужен не для веселья, а как тикающие часы, отсчитывающие последние минуты уходящего года.
Они ели молча, сидя в противоположных концах большого дивана. «Оливье» казался самым обычным, но в этой обстановке его вкус был странно-привычным якорем в бушующем мире. Даша ела мало, больше от смущения. Максим – быстро и деловито, словно выполнял задачу по поглощению калорий. Когда тарелки были пусты, а на экране начался прямой эфир с Красной площади, Максим встал и принес из прихожей ту самую бутылку дорогого коньяка и два граненых стакана, словно сошедших с полок советского буфета. Он налил золотистую жидкость до краев одного стакана и чуть-чуть – в другой.
– Вам нельзя, – коротко пояснил он, протягивая ей тот, где было на донышке. – Просто для символа.
Они сидели, держа в руках стаканы. Бормотание телевизора нарастало, куранты начали отбивать время. Максим поднял стакан. Его лицо в свете телевизора и камина было каменным, бесстрастным.
– С наступающим, – произнес он глухо, и в его голосе не было ни капли праздника. Это была формальность, отданная долгом моменту.
Он поднес стакан к губам и одним решительным, почти яростным глотком опрокинул весь коньяк внутрь. Горячая, обжигающая жидкость огненным потоком разлилась по его горлу, груди, желудку, пытаясь вытеснить ледяное онемение, которое стало его привычной броней. Но вместо тепла она принесла лишь горькое жжение стыда и вины. Он не закусил, не поморщился, просто поставил пустой стакан на стол с тихим, но оглушительным в тишине стуком. И больше не притронулся к бутылке, отодвинув ее от себя, словно от чего-то оскверняющего. Он старался не смотреть на Дашу. Каждый ее вздох, каждый легкий шелест одежды отзывался в нем глухим, предательским эхом. Ее хрупкая, изломанная красота, эта странная смесь силы и беззащитности, действовала на него как наркотик. Сквозь запах дыма и дерева он уловил тончайший аромат ее кожи, и это сводило его с ума. Древнее, животное желание – прикоснуться, ощутить, обладать – поднималось из самых потаенных глубин, сокрушая все возведенные им плотины. Оно было диким, неистовым и невыносимым от того, насколько было неуместным и постыдным. Она была ранена, она доверилась ему, она нуждалась в защите, а его мысли предательски вели себя как у волка, учуявшего добычу.
Вина за эти мысли сжимала его горло тугой петлей, усугубляя пьянящий эффект коньяка. Он ненавидел себя в этот момент сильнее, чем когда-либо. Это было хуже, чем простое предательство памяти Кати и Степки. Это было осквернение самого понятия помощи, врачебного долга, который оставался его последним оплотом.
Даша лишь смочила губы. Жгучий вкус разлился по рту, но не согрел. Она смотрела на него и, казалось, чувствовала бурю, бушующую за его каменной маской. Напряжение в комнате стало физически осязаемым. На экране гремел салют, люди смеялись и обнимались. В теплой, пахнущей деревом гостиной было тихо. Два одиноких острова, на мгновение приставших друг к другу в снежном море.
Максим резко поднялся, его движение было порывистым, выдавшим внутреннюю борьбу.
– Вам нужен отдых, – его голос прозвучал хрипло, почти срываясь. – Спокойной ночи.
Не дожидаясь ответа, он развернулся и быстрыми шагами вышел из гостиной, оставив ее одну в мерцающем свете камина и безучастного телевизора. Он не пошел, а буквально ворвался в свою спальню, захлопнув за собой дверь так, что содрогнулась бревенчатая стена.
В кромешной темноте, не включая света, он тяжело опустился на край кровати. Дрожащей рукой нащупал на прикроватной тумбочке знакомый резной контур фоторамки. Он схватил ее, впиваясь пальцами в холодное стекло, за которым сияли три улыбки – его, Кати, и Степки, застигнутые объективом где-то на солнечном пляже, в другой, навсегда утраченной жизни. Он провел большим пальцем по стеклу, стирая невидимую пыль, останавливаясь на лице сына, потом жены.
– Простите меня, – выдохнул он в ледяную тишину комнаты. Голос его был поломанным, полным самоотвращения. – Простите…
Он не раздевался. Слишком сильно тряслись руки, слишком назойливо стоял перед глазами образ женщины из гостиной. Он повалился на постель навзничь, сжимая рамку с фотографией на груди, как тонущий – спасительный круг. И лежал так, уставившись в темноту, пока тяжелый, беспокойный сон, помноженный на усталость, боль и алкоголь, не сомкнул, наконец, его веки. Но даже во сне его лицо не обрело покоя, искажаясь гримасой тихого отчаяния.
Оставшись одна, Даша замерла, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Грохот захлопнувшейся двери отозвался эхом не только в бревенчатых стенах, но и где-то глубоко внутри нее. Давящая тишина, нарушаемая лишь треском камина и завыванием метели, снова сомкнулась вокруг, но теперь она была иной – напряженной, электрической, наполненной невидимыми разрядами только что произошедшего. Она медленно опустилась на подушки, стараясь унять легкую дрожь в руках. Ее тело, еще не пришедшее в себя после аварии, отзывалось на все новое и странное обостренной чуткостью. И сейчас оно реагировало на него. На Максима. Ее разум, острый и отточенный пережитым горем, тут же включился в привычную работу – анализ, отрицание, защиту. «Он грубый. Неотесанный. Угрюмый. Сказал «нет» – и даже не посмотрел. Ушел, хлопнув дверью, как будто я ему в тягость. Какое право он имеет?» Это был знакомый, отработанный механизм. Она строила стену из недостатков, отталкивающих черт, чтобы дистанцироваться, чтобы обезопасить себя. Ее душа, израненная предательством самого близкого человека, кричала о том, что доверять нельзя никому, а уж тем более первому встречному, пусть и спасшему ей жизнь. Доверие – это слабость. Влечение – это уязвимость. А она поклялась себе больше никогда не быть уязвимой. Но было и другое. Тело, забывшее за долгие месяцы скорби и самобичевания, что оно – живое, вдруг напомнило о себе. И оно говорило на совершенно ином, примитивном, животном языке. Она чувствовала тепло там, где его руки касались ее, когда он нес ее в дом. Не физическое тепло, а некий шлейф, отпечаток силы и уверенности, который жег кожу сквозь слои одежды. Она видела его глаза – темные, глубокие, в которых бушевала целая буря невысказанной боли. И в этой боли она с ужасом узнавала отголосок своей собственной. Это было невыносимо и притягательно одновременно. Она вспомнила его уход – резкий, порывистый, напряженный. И ее внутренний радар, настроенный на малейшие нюансы эмоций после жизни с Артемом, уловил в этом бегстве не раздражение, а… борьбу. Ту самую борьбу, что сейчас начиналась в ней. И тогда по телу пробежала странная, предательская волна тепла. Не от камина. Изнутри. Сжатый кулак в низу живота, учащенный пульс, легкая испарина на ладонях. Это было физиологично, примитивно и абсолютно не поддавалось контролю. Ее тело, ожившее после шока аварии, после выплеска эмоций на кладбище, требовало жизни. Цеплялось за нее. А он – сильный, мужской, доминантный – был воплощением этой жизни, этого выживания. «Нет, – сурово приказала себе Даша, впиваясь ногтями в ладони. – Это не я. Это шок. Это благодарность, которую я ошибочно принимаю за что-то другое. Он на тебя даже не смотрит. Ты ему обуза. Помеха.». Но образ не уходил. Его пронзительный, прожигающий взгляд. Широкие плечи, заслоняющие свет камина. Твердая линия губ. Голос, низкий и бархатный, который, казалось, вибрировал где-то в самом основании ее позвоночника. Она повернулась на бок, к спинке дивана, стараясь загнать эти мысли обратно, в тот самый герметичный саркофаг, где хранилось все, что могло причинить боль. Но крышка не закрывалась. Химия тела оказалась сильнее железной воли. Гормоны, выпущенные на свободу адреналином от аварии и странностью ситуации, вели свою собственную, древнюю игру, совершенно не интересуясь доводами ее разума.