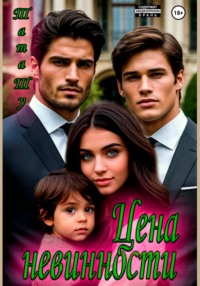Полная версия
Развод. Дно отчаяния
– Мы видели ваш профиль на HH. Можете пройти короткое онлайн-собеседование? – спросила девушка.
Даша глубоко вздохнула. Сердце заколотилось – не от страха, а от предвкушения.
– Конечно, – уверенно ответила она. – Готова в любое удобное для вас время.
Собеседование прошло на английском. Она говорила о своем опыте, о работе с документами, о деловой переписке. Не упоминала ни мужа, ни сестру, ни трагедию. Говорила только о профессионализме. Через два дня ей пришел оффер. Позиция «Координатор международных проектов». Удаленно. Зарплата была чуть ниже, чем в Москве, но более чем достойная для жизни в новом городе, особенно с учетом полученных от продажи квартиры денег.
Она приняла предложение. В первый рабочий день она села за письменный стол у большого окна, за которым облетали последние листья со старых деревьев. На экране ноутбука загорелся значок видео-звонка – первая встреча с новой командой.
Она улыбнулась про себя. Это была не та сладкая, наигранная улыбка, что была у Маши. Это была сдержанная, уверенная улыбка человека, который сам, шаг за шагом, выстроил себе путь к спасению. У нее была работа. Был дом. И начиналась новая жизнь.
Глава 4.
Пока Даша по кирпичику собирала свою новую реальность в тишине чужого, но ставшего своим города, в Москве разворачивалась иная драма – драма поспешных решений и горьких разочарований. Для Артема и Маши не существовало периода неловкости или раскаяния. Их союз, рожденный из предательства, не мог строиться на неторопливом ухаживании и глубоких чувствах. Его фундаментом была похоть, ее – зависть и жажда обладания. Когда пыль от скандала немного улеглась, их поглотила странная, истеричная эйфория. Они вели себя как подростки, бросающие вызов миру: снимали дорогие номера в отелях, устраивали шумные вечеринки в той самой квартире, выставляя напоказ свою «любовь», словно пытаясь убедить самих себя в ее искренности.
Но реальность быстро напомнила о себе. Отец Артема, Николай Петрович, человек старой закалки и железных принципов, был в ярости. Он всегда высоко ценил Дашу – ее ум, деловую хватку, надежность. Потерю невестки он воспринял как личное оскорбление и чудовищную ошибку сына. Разговор в кабинете отца был коротким и холодным.
– Ты совершил глупость, за которую будешь расплачиваться годами, – сказал Николай Петрович, не предлагая сыну сесть. – Ты променял алмаз на стекляшку. Даша была твоим лучшим активом. И как жена, и как партнер. А эта… – он с презрением махнул рукой в сторону двери, за которой осталась Маша. – Эта ничего из себя не представляет. И никогда представлять не будет. Ты думал, что твоя выходка останется без последствий?
С этого дня Артем почувствовал ледяное дыхание немилости. Его постепенно отодвинули от ключевых проектов, лишили перспективных клиентов. Зарплата оставалась высокой, но карьерный рост, который прежде был предрешен, остановился. Отец с ним говорил строго, по-деловому, без тени прежнего отеческого одобрения.
Именно в этот момент Маша сделала свою главную ставку. Она забеременела. Это не было неожиданностью; это был расчетливый шаг. Она понимала, что ее положение в семье Беловых шатко. Она не была желанной невесткой. Ее единственной надеждой было дать им то, что они так хотели от Даши, – наследника. Она объявила о беременности с торжествующим видом, ожидая фанфар и всеобщего прощения. Реакция оказалась иной. Родители Артема восприняли новость со сдержанной вежливостью. Они были достаточно воспитаны, чтобы не проявлять открытого недовольства, но их поздравления прозвучали сухо, без радости. Для них это был не долгожданный внук, а ребенок от нелюбимой женщины, зачатый в грехе и ставший разменной монетой.
Для Маши этого оказалось достаточно. Она немедленно выстроила новую линию поведения. Если Даша до последнего дня работала и строила карьеру, то Маша с первых же недель объявила, что теперь ее работа – это рождение здорового ребенка.
– Мне нельзя нервничать, уставать, дышать городским воздухом, – заявила она Артему. – Ты же хочешь здорового наследника? Я должна сосредоточиться на себе и на малыше. Работа – это для тех, у кого нет такой высокой миссии.
Она уволилась с незначительной должности, которую с трудом нашла после института, и погрузилась в праздность. Ее дни состояли из походов по спа-салонам, шопинга для беременных (счета которой она без зазрения совести отправляла Артему) и бесконечных капризов. Она играла роль хрустальной вазы, несущей в себе бесценный груз.
Артем, и так находящийся под давлением на работе, оказался зажат в тиски и дома. Маша была требовательной, капризной и постоянно напоминала ему о его «долге». Ее любовь, которая казалась такой страстной и запретной, быстро превратилась в собственнический эгоизм. Она ревновала его к работе, к друзьям, даже к его собственным родителям.
– Ты должен быть рядом! – упрекала она его, когда он задерживался в офисе, пытаясь хоть как-то вернуть расположение отца. – Твоя семья здесь! Я и твой ребенок! Ты что, хочешь, чтобы он рос без отца, как мы с Дашей?
Она умело играла на его чувстве вины, манипулируя им. Их брак, на который они так поспешили, расписавшись тихо, в загсе, без гостей и белого платья, которое Маша с насмешкой называла «пережитком», стал золотой клеткой. Сначала он женился на ней, потому что «так надо» – она беременна, он «ответственный мужчина». А потом оказалось, что «надо» только ей. Родители Артема приезжали редко. Визиты были короткими и натянутыми. Екатерина Анатольевна, мать Артема, привозила необходимые вещи для будущего ребенка, но делала это с холодной учтивостью, без тепла и вовлеченности, с которыми она когда-то обсуждала планы с Дашей.
Артем чувствовал себя в ловушке. Он потерял уважение отца, потерял любовь семьи, потерял Дашу и тех детей, которых он по-настоящему хотел. Теперь он был привязан к женщине, которую в моменты трезвости почти не знал и которую начинал тихо ненавидеть. Его окружала роскошь, которую он уже не мог позволить себе так легко, потому что отец урезал его бонусы, и беременная жена, чьи запросы росли с каждым днем. Он смотрел на Машу, развалившуюся на диване в дорогом шелковом халате, смотрящую сериал и требующую принести ей клубнику в середине ноября, и ловил себя на мысли о Даше. О том, как она, будучи на том же сроке, допоздна работала над проектом, а потом, сияя, показывала ему результат. Как они вместе смеялись, выбирая имена, как строили планы. Та беременность была общим счастьем, желанным чудом. Эта – напоминанием об ошибке, стратегией и обузой. Он понимал, что проиграл. Проиграл все. И главным призом в этой проигрышной игре была его новая жена, уверенная, что, родив ребенка, она навсегда обеспечила себе место под солнцем в семье Беловых, даже если это солнце теперь светило для нее скупыми, холодными лучами.
Тем временем письмо с официальным уведомлением о продаже доли Даши в их общей квартире стало для Артема последним символическим актом. Его прошлое было окончательно стерто. Двери назад не существовало. Оставалось только идти вперед по темному тоннелю, который он сам себе вырыл, держа за руку женщину, которую когда-то желал так сильно, что ослеп от этого желания.
Несчастье, произошедшее с Дашей, стало мощным катализатором, который заставил пересмотреть формальные отношения в семье, однако доверие рождалось медленно и с осторожностью. До трагедии общение с отцом и его женой Аллой Леонидовной было ритуалом, исполняемым по поводу дней рожденья. Их связывала спокойная, но дистанционная привязанность, а между Дашей и Аллой Леонидовной всегда стояла незримая стена, возведенная из ревности к прошлому мужа и памяти матери Даши. Большое горе это стену не разрушило, но сделало в ней пробоину. Первым шагом стал визит Аллы Леонидовны в больницу. Сам факт того, что приехала именно она, а не отец, был значимым. Ее поведение было непривычно искренним, без обычной сдержанности. Алла сказала главное: «Я знаю, кто… был инициатором», – и произнесла это с таким отвращением, что Даша впервые почувствовала нечто похожее на родственность. В этот момент Алла Леонидовна перестала быть просто «женой отца» и стала союзницей, женщиной, которая понимает боль предательства. Ее предложение – переезд к ним, а затем ключ от квартиры в другом городе – было не просто щедрым, оно было продуманным и глубоким. Даша, оглушенная болью, приняла эту руку помощи. Но внутри нее, под слоем апатии и отчаяния, сработал защитный механизм. Она была благодарна, но не спешила раскрывать душу. Щедрость Аллы и поддержка отца воспринимались ею как долгожданная опора, но не как повод для мгновенного слияния в единую семью. Она приняла помощь, но не спешила доверять самое сокровенное – свою непрекращающуюся боль, свои страхи о будущем, свое одиночество, которое даже среди них оставалось с ней.
В первые дни у отца и Аллы царила приглушенная, тактичная атмосфера. Они стали для Даши надежным тылом: оградили ее от навязчивых попыток Артема, поддержали во время переговоров о продаже доли. Отец, с его мучительным чувством вины, и Алла Леонидовна, с ее практичной заботой, делали все, что было в их силах. И они действительно нашли общий язык. Беседы за чаем перестали быть тягостными обязательствами. Они говорили о практических вещах: о разводе, о продаже квартиры, о новом городе. Даша ценила их участие и даже начала чувствовать тепло, которого не было раньше. Но это было осторожное, взвешенное сближение. Она не делилась ночными кошмарами, не плакала у них на плече. Слезы она позволяла себе только наедине, в тишине своей комнаты, за плотно закрытой дверью. Она строила с ними мосты, но не спешила по ним бежать. Их визит в новую квартиру стал важной вехой. Они увидели не сломленную жертву, а человека, мужественно собирающего свою жизнь по кусочкам. Алла радовалась, что ее предложение пришлось впрок, давала практичные советы по обустройству. Отец, видя, что дочь обретает почву под ногами, заметно успокоился. Даша была им искренне рада. Впервые за долгое время она почувствовала, что у нее есть семья, на которую можно опереться. Но доверие – полное, безоглядное – все еще оставалось где-то впереди. Оно должно было вызреть, как вызревает шрам, – медленно, день за днем. Она научилась принимать их заботу, ценить их поддержку и даже шутить с Аллой. Но свою самую поврежденную, самую уязвимую часть она пока не спешила им показывать. Это было ее личной территорией, крепостью, ворота которой открывались лишь чуть-чуть, впуская свет, но не распахиваясь настежь.
И лишь со временем, уже из тишины своей новой квартиры, во время редких, но ставших более теплыми телефонных разговоров, Даша начала по-настоящему понимать Аллу. Ту самую ревность, которую она всегда чувствовала, но не осознавала до конца. Алла как-то обмолвилась о своем первом муже, который ушел к другой. А потом рассказала, как встретила ее отца – их любовь была настолько стремительной и всепоглощающей, что они ничего не смогли с собой поделать. Они счастливо жили, но, видимо, бог решил их наказать за содеянное перед первой семьей отца Даши – своих детей у них так и не появилось. Все беременности заканчивались выкидышами. И все эти годы Алла жила в страхе, что ее Саша, ее единственная опора и любовь, однажды одумается и вернется к своей прежней жизни, к своим дочерям, к их матери. Эта тень прошлого, этот страх и был той стеной, что отделял их все эти годы. Теперь, когда Даша была ранена и одинока, а Маша совершила немыслимое, эта стена больше была не нужна. Они оказались по одну сторону баррикады – стороны преданных и выживающих. И в этом новом, горьком статусе они наконец-то смогли увидеть друг в друге не соперниц, а родственные души.
Глава 5.
Человеческая психика – удивительный инструмент. Ее главная задача – не счастье, а выживание. И она мастерски умеет приспосабливаться к любым, самым невыносимым условиям. Боль, которая сначала кажется убийственной, со временем не исчезает, но становится частью ландшафта души. Ее не «лечат», с ней учатся жить. Как живут со старым переломом, который ноет к непогоде, напоминая о прошлой травме, но уже не мешая идти.
Даша начала оживать. Это было не яркое, стремительное возрождение, а медленное, почти биологическое прорастание сквозь толщу пепла. Ее дни обрели ритм, структуру, и в этом был ее новый оплот. Работа, дом, прогулки, чашка кофе утром у большого окна. Она приспособилась к тишине, которая теперь была не врагом, а условием существования. Она научилась отличать боль острую, приходящую волнами, от фоновой, тупой, которая стала ее постоянной спутницей.
Но оживала уже другая Даша. Та, прежняя – открытая, легкая, доверчивая, с готовностью распахивающая душу навстречу миру, – осталась там, в прошлой жизни. Ее убили в тот день. Новая Даша была осторожной, сдержанной, ее чувства были надежно упрятаны за многослойной броней пережитого. Ее общительность и открытость миру не исчезли – они спрятались. Глубоко внутри, как драгоценность, которую больше не выставляют напоказ, опасаясь воров. Она не заводила новых знакомств. Общение с коллегами по работе оставалось строго в рамках профессионального: четко, вежливо, без личных тем. Она отвечала на вопросы, участвовала в общих чатах, даже шутила иногда, но ее виртуальное присутствие было подобно хорошо составленному резюме – информативно, но бездушно. Никто из новой команды не знал, что творится за ее спокойным, сосредоточенным выражением лица. Они не знали о ее потере, о предательстве, о том, что по ночам ее все еще посещают призраки нерожденных дочерей. На прогулках она не смотрела людям в глаза. Взгляд ее скользил по фасадам домов, по кронам деревьев, по витринам магазинов, но избегал встреч с чужими взглядами. Она не шла на контакт первой. Кассирше в супермаркете, соседке по лестничной клетке, которая однажды попыталась завести разговор о погоде, – всем она отвечала вежливой, но непреодолимой сдержанностью, которая ясно давала понять: «Я не опасна, но и не доступна. Не подходи близко».
Говорят, время лечит. Даша поняла, что это ложь. Время не врач, оно – шлифовальщик. Оно не убирает боль, оно закатывает ее острые края, сглаживает, делает ее менее режущей, более притупленной. Оно позволяет упаковать свое горе, свой гнев и свое разочарование в герметичный саркофаг и спрятать его в самом дальнем, самом темном углу своей души. Ты знаешь, что он там есть. Ты даже иногда чувствуешь его холодное дыхание. Но ты учишься не открывать его. Ты учишься жить, обходя это место стороной.
Ее улыбка стала другой. Раньше она смеялась легко и громко, закидывая голову. Теперь ее улыбка редко касалась глаз. Это была сдержанная, часто вежливая улыбка-маска, которая говорила миру: «Со мной все в порядке. Не беспокойтесь обо мне». И лишь изредка, когда она наблюдала за игрой котенка во дворе или находила на полке в магазине книгу своего любимого автора, на ее губах появлялось подобие той, старой улыбки – хрупкое, мимолетное, но настоящее. Она строила свою жизнь не как дворец для счастья, а как крепость для безопасности. Пространство ее квартиры было выстроено так, чтобы ничто не напоминало о прошлом. Никаких фотографий, никаких старых вещей, подарков. Все было новым, выбранным ею лично, и оттого без истории, а значит, и без боли. Это был ее кокон, ее убежище. И в этом коконе, в этой тишине, она начала находить странное утешение. Утешение в самодостаточности. Она поняла, что может полагаться на себя. Что ее счастье, ее спокойствие и ее будущее больше не зависят от кого-то другого – ни от мужа, ни от сестры, ни даже от доброты отца и Аллы. Эта независимость была куплена страшной ценой, но теперь это была ее главная ценность. Она не была счастлива. Но она и не была несчастна. Она была в состоянии перемирия с самой собой и с миром. Она дышала, работала, заваривала по вечерам чай, смотрела на закат из своего окна. И в этой новой, строгой, немного одинокой жизни был свой горький, но чистый вкус. Вкус выживания. Вкус свободы, отвоеванной в жестокой битве. И она ценила каждую его крупицу. Боль утраты и предательства никуда не делась. Она просто стала тише. Она жила где-то внутри, как зажившая рана, которая ноет перед дождем. Даша научилась слышать этот тихий стон и не бояться его. Она приняла его как часть себя – той новой, более сильной, более сложной и навсегда изменившейся женщины, которой ей предстояло быть. В таком коконе, в этой строгой, выверенной тишине, с Дашей произошла удивительная метаморфоза. Горе, словно суровый ваятель, обтесало и закалило ее, обнажив ту истинную, глубокую красоту, что раньше была скрыта за легкостью и доверчивостью юности. Ее красота была не броской, не вызывающей, как у Маши. Это была классическая, истинно русская красота – сдержанная, одухотворенная, пронзительная. Та, что проступает из глубины, из самой души, и заставляет замереть на мгновение. Ее длинные русые волосы, которые раньше она то собирала в небрежный хвост для скорости, то укладывала в сложные прически для встреч, теперь всегда были распущены или собраны в мягкий, низкий пучок. Они казались гуще и здоровее, отливая темным золотом в лучах неяркого солнца, что заливало ее квартиру. Она мыла их теперь не на бегу, а как ритуал, с дорогими маслами, и расчесывала медленно, у окна, глядя на закат. Это было не кокетство, а часть общего ухода за собой, способ показать себе же, что она того стоит. Но главным были ее глаза. Большие, миндалевидные, серо-зеленые, как морская вода в пасмурный день. В них поселилась новая, невероятная глубина. Они больше не сияли беззаботным блеском – теперь в них читалась целая история: немыслимая боль, предательство, тихая скорбь и, поверх всего этого – непоколебимая, закаленная воля. Это был взгляд человека, который увидел самое дно и медленно, упрямо оттолкнулся от него наверх. Он мог быть холодноватым и отстраненным с незнакомцами, но в моменты задумчивости, когда она смотрела в окно на облетающие листья и первый снег, в этих глазах стояла такая бездонная, искренняя печаль и мудрость, что сердце могло сжаться от невольного сопереживания. Ее лицо, освобожденное от необходимости быть всегда приветливым и открытым, обрело спокойные, четкие черты. Легкий румянец на высоких скулах, проступавший после прогулок на свежем воздухе, больше не терялся в суматохе дней – он был заметен на фоне ее фарфоровой, почти прозрачной кожи, которую она теперь щедро баловала качественным кремом. Она научилась ценить простые ощущения: тепло чашки в ладонях, мягкость дорогого кашемирового палантина на плечах, чистоту кожи после скраба. А ее губы… Манящие, с четким, красивым изгибом. Раньше они почти всегда были расплывшись в улыбке. Теперь она улыбалась редко, и от этого ее улыбка, редкая и немного грустная, становилась бесценным даром для тех, кому она адресовалась – продавцу в цветочном магазине, коллеге по видеозвонку, приславшему удачную шутку. Но даже когда она была серьезной, в этих губах была не холодность, а глубокая, сосредоточенная мысль.
И самое главное – она действительно светилась изнутри. Но это был не беззаботный свет счастья. Это было ровное, уверенное, стойкое свечение силы духа, прошедшей через ад и очистившейся в его пламени. В ее движениях появилась новая, кошачья грация и точность. В том, как она наливала себе кофе, как поправляла волосы, как сосредоточенно смотрела на экран ноутбука. В ней не было ни суеты, ни нервозности. Только выверенная, осознанная жизнь в каждом моменте.
Она стала подобна редкому, утонченному драгоценному камню – сапфиру или аквамарину, чья истинная глубина и игра света раскрываются не при ярком солнце, а в спокойном, мягком сиянии. Ее красота больше не кричала – она говорила тихим, но абсолютно внятным голосом, притягивая взгляд не яркостью, а невероятной, загадочной глубиной и той тихой, непобедимой силой, что сквозила в каждом ее взгляде, в каждом движении. Она была разбитым сосудом, собранным заново золотым клеем – и швы не портили ее, а делали уникальной, бесценной и невероятно прочной.
Глава 6.
И только календарь стал ее тираном. Каждый оторванный листок, каждый перечеркнутый день в ежедневнике приближал ее к дате, которая должна была стать самой счастливой в ее жизни, а стала самой страшной. Канун Нового года. Предполагаемый день рождения ее дочерей. Внешне ее жизнь продолжала идти своим чередом – размеренным, упорядоченным, рабочим. Но внутри все сжималось в один тугой, болезненный комок. Она понимала, что не может оставаться в этих стенах, в одиночестве встретить тот день. Ей нужно было действие. Ритуал.
Утро в тот день было морозным и солнечным. Даша молча собралась, села в машину и поехала на кладбище. Дорога заняла часа два. Она ехала молча, без музыки.
Кладбище было новым, ухоженным, тихим. Она нашла небольшой, аккуратный участок земли под старой голой березой с простой гранитной плитой. Даша замерла. Вся ее стальная броня рухнула в одно мгновение. Она опустилась на колени на холодный снег и положила ладони на холодный камень. Слезы хлынули потоком.
– Простите меня, – прошептала она, ее голос сорвался. – Простите, что я не уберегла вас.
Она говорила с ними, плакала о них, о себе прежней. И тогда, в этой леденящей тишине, с ней случилось странное. Словно из самых глубин ее души поднялось чувство глубокого, необъяснимого умиротворения. Она вдруг ясно поняла: они не винят ее. Ей не за что перед ними извиняться. Она вытерла лицо, положила на камень два маленьких букетика белых хризантем.
– Спите спокойно, мои хорошие, – тихо сказала она. – Мама вас никогда не забудет.
Она поднялась с колен. Боль никуда не ушла. Но теперь это была не разрывающая боль, а светлая, горькая печаль, которую можно было принять. По дороге назад она неожиданно для себя свернула к дому отца. Она не планировала этого, но сейчас ей необходимо было увидеть хоть какое-то живое, родное лицо после разговора с мертвыми. Ее встретили с распростертыми объятиями, но в их глазах читалась тревога – они тоже помнили, каким днем должен был стать этот день. Алла, не говоря ни слова, крепко обняла ее, а отец молча потрепал по плечу, его глаза были влажными.
– Оставайся, встретим Новый год вместе, – тихо, почти умоляюще, сказал отец, когда они сидели за чаем.
Алла Леонидовна поддержала его:
– Дашенька, не уезжай, пожалуйста. Не оставайся одна в такой вечер.
Их забота была искренней, она чувствовала это. Но мысль о том, чтобы сидеть за праздничным столом, делать вид, что все нормально, слушать бой курантов, которые должны были возвестить о рождении ее детей, а теперь знаменовали лишь их отсутствие, была невыносимой.
– Нет, – ответила она твердо, но без резкости. – Спасибо вам. Но я не могу. Мне нужно быть одной.
Они не стали настаивать, видя непоколебимое решение в ее глазах. На прощание Алла сунула ей в руки контейнеры с домашними пирогами и салатом «Оливье», а отец еще раз крепко, почти до боли, обнял ее.
Она выехала за город. Небо затянуло тяжелыми снежными тучами, предвещающими метель. Первые снежинки закружились в свете фар, постепенно превращаясь в плотную, белую стену. Ветер усилился, завывая в щелях машины. Даша замедлила ход, вглядываясь в почти нулевую видимость. Она сосредоточилась на дороге, на мигающей разметке, которую вот-вот должно было замести. Мысли о дочерях, об отце с Аллой, о прошедшем дне отошли на второй план, уступив место инстинкту самосохранения. Но это случилось внезапно. Резкий порыв ветра, занос на обледенелом повороте, неверное движение рулем… Машину резко развернуло и понесло в сторону. Мир за окном превратился в хаотичную карусель из белой мглы и темного леса. Последнее, что она почувствовала перед тем, как грохот поглотил все звуки, – это ослепительную, пронзительную вспышку страха.
Максим Логинов мчался по пустынной заснеженной дороге, словно пытаясь уйти от самого себя. За окном его мощного внедорожника мелькали однообразные пейзажи – белые поля, черные силуэты спящего леса, изредка одинокие огоньки поселков. В салоне царила гнетущая тишина, нарушаемая лишь гулом мотора и завыванием ветра, который с каждой минутой усиливался, предвещая настоящую метель. Он ехал в свой загородный дом. Как и каждый год в это время. Пять лет. Пять долгих лет, как его мир перестал быть цветным, теплым и наполненным смыслом. Пять лет назад, в такой же предновогодний вечер, он потерял все – свою жену Катю и семилетнего сына Степку. В тот вечер они хотели перебраться жить за город, потому что наконец-то провели газовое отопление. Но… Роковое стечение обстоятельств, пьяный водитель, гололед… Он, один из лучших хирургов города, спасавший сотни жизней, не смог спасти самых дорогих людей. Их не стало еще до приезда скорой. Горе опустило его на дно отчаяния. С тех пор он стал нелюдимым. Он не перестал быть блестящим хирургом – работа стала его единственным пристанищем, единственной формой существования, где он мог отключиться. В операционной, в свете ламп, под монотонный звук аппаратуры не было места личному горю. Там были только точность, профессионализм и жизнь пациента, которую он обязан был сохранить. Коллеги уважали его и тихо жалели. Друзья и родители сначала активно пытались его «вернуть», звали на праздники, в гости. Но все их попытки разбивались о глухую, непробиваемую стену его молчаливого отчаяния. Максим давно перестал быть душой компании. Он стал тенью – высоким, статным, с резкими, уставшими чертами лица и глазами, в которых навсегда поселилась ледяная пустота.