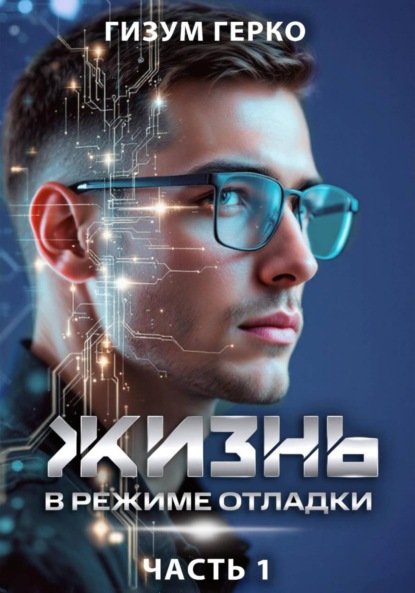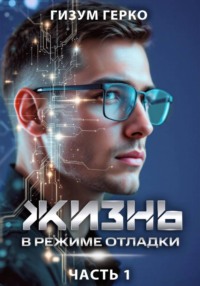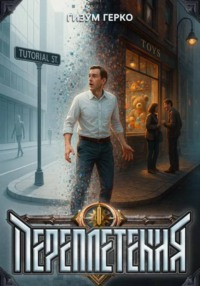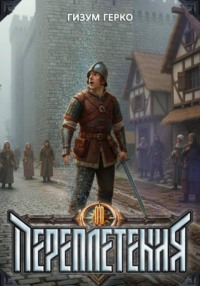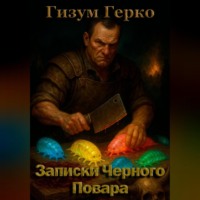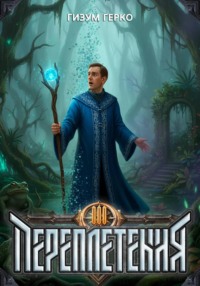Полная версия
Жизнь в режиме отладки 2
Там было двое.
Два Гены.
Один, мой знакомый в футболке с драконом, сидел в своем кресле-троне. Второй, в той самой футболке Led Zeppelin, которую я видел в столовой, стоял напротив него, яростно жестикулируя. Они не заметили, как я вошел. Они были поглощены спором. Жарким, напряженным, совершенно непонятным.
– Я же тебе говорил, нельзя инвертировать фазу на третьем контакте! – шипел «мой» Гена, тыча пальцем в какой-то сложный прибор, лежавший между ними на столе. Прибор был похож на металлический еж, из которого торчали десятки разъемов и тонких, как волос, проводков. – Ты сожжешь весь силовой контур!
– Да ладно тебе, старая спецификация врет! – огрызался Гена в футболке Zeppelin. – Там запас прочности в три раза больше. Я просто хотел повысить эффективность на двенадцать процентов! Я почти закончил распиновку.
– Двенадцать процентов эффективности в обмен на риск каскадного резонанса, который разнесет полкрыла? Гениальный план, гений! Ты хоть понимаешь, что этот артефакт нестабилен?
В этот момент «мой» Гена, видимо, почувствовал мое присутствие. Он поднял голову и посмотрел прямо на меня. В его глазах мелькнул испуг, смешанный с крайней досадой. Второй Гена проследил за его взглядом и тоже обернулся. Увидев меня, он выругался. Тихо, но очень сочно.
И исчез.
Это не было похоже на фокус.
Не было вспышки света. Он просто… растворился. Его фигура на мгновение пошла рябью, как помехи на старом телевизоре, распалась на тысячи мерцающих пикселей и растаяла в воздухе, оставив после себя лишь легкий запах озона и ощущение чего-то совершенно неправильного.
В комнате повисла тяжелая, звенящая тишина, нарушаемая лишь гулом серверов. Артефакт-еж на столе жалобно пискнул и погас.
Гена, тот, который остался, тяжело вздохнул и с силой потер лицо руками. Он выглядел так, будто только что провел десять раундов с Майком Тайсоном и проиграл по очкам.
– Черт, – пробормотал он, глядя на то место, где только что стоял его двойник. – Вот так всегда. На самом интересном месте.
***
Я стоял на пороге берлоги, пытаясь осознать то, что только что произошло.
Двойник. Исчезающий в мерцании пикселей. Спор о распиновке артефакта.
Мой мозг, который за последние дни и так работал на пределе, отказывался строить хоть сколько-нибудь логическую картину. Это выходило за рамки даже того безумия, к которому я, казалось, уже начал привыкать.
Гена наконец оторвал взгляд от опустевшего места и посмотрел на меня. На его лице была написана такая вселенская усталость, что я невольно почувствовал себя виноватым, хоть и не понимал, в чем именно.
– Ладно, проходи, раз уж пришел, – сказал он, махнув рукой в сторону кресла-мешка, заваленного какими-то платами. – Все равно ты уже все видел. Закрой только дверь.
Я послушно закрыл дверь и, аккуратно сдвинув с кресла стопку старых журналов по радиоэлектронике, сел. Гена откинулся в своем кресле-троне и долго молча смотрел на меня. Это был не тот отстраненный, погруженный в себя взгляд, который я видел раньше. Это был внимательный, оценивающий взгляд человека, который решал, сколько мне можно рассказать.
– Уровень допуска у тебя «1А», я вижу, – наконец произнес он, кивнув на мой внутренний коммуникатор, который я забыл убрать в карман. – Значит, Орлов тебе доверяет. Это хорошо. Это упрощает дело. Избавляет меня от необходимости врать, а врать я не люблю. Слишком энергозатратно.
Он взял со стола одну из своих многочисленных кружек, сделал большой глоток остывшего кофе и скривился.
– То, что ты видел, – он снова посмотрел на меня, – мы это называем… «резонансным дублированием». Или, если по-простому, выдергиванием копий из смежных вероятностей. Иногда, когда мне нужно протестировать что-то по-настоящему опасное или просто лень идти в другой конец коридора за паяльником, я… ну, создаю краткосрочную, нестабильную копию себя.
Он говорил об этом так буднично, словно объяснял принцип работы виртуальной машины.
– Это очень нестабильный процесс, – продолжил он, заметив мое ошарашенное выражение лица. – Требует огромной концентрации и ресурсов. Дубликат существует недолго и сильно зависит от исходного состояния. Видел, он был в другой футболке? Это потому, что сегодня утром я раздумывал, что надеть. Вот из этой вероятности его и выдернуло. Мелочь, но показывает, насколько все это хрупко. Любое внешнее вмешательство, вроде твоего появления, нарушает резонанс, и копия… коллапсирует. Возвращается в общее информационное поле. Безопасно. В основном.
Я молчал. У меня не было слов. Все научные теории, все, что я знал о физике и реальности, рушилось, как карточный домик.
– Я пришел за помощью, – наконец сумел выговорить я, показывая ему скриншоты архива «Наследие-1». – Я не могу это открыть. Протокол кодировки… он чужой.
Гена взглянул на распечатку и кивнул.
– Конечно, чужой. Это ж язык Основателей. Они мыслили не двоичными кодами, а структурами. Геометрией. Поэтому стандартные дешифраторы тут бессильны. Это все равно что пытаться открыть китайскую шкатулку-головоломку с помощью лома.
Он порылся в одной из многочисленных коробок, заваленных всяким техническим хламом, и извлек оттуда небольшой металлический предмет. Это был сложный многогранник, размером с мой кулак, собранный из десятков подвижных, вложенных друг в друга колец и пластин. Поверхность артефакта была покрыта тончайшей гравировкой, напоминающей те самые символы, что я видел на экране.
– Это «отмычка», – сказал Гена, протягивая его мне. Предмет был прохладным и на удивление тяжелым. – Один из немногих артефактов, который мы смогли… адаптировать. Он работает по принципу резонанса.
Он снова откинулся в кресле, глядя на меня с лукавой усмешкой.
– Забудь все, чему тебя учили хакерские форумы. Тут не нужен брутфорс. Думай не о взломе, а о структуре данных. Посмотри на схему архива. Почувствуй ее. Представь ее форму в своей голове. Не как набор символов, а как… цельный объект. Трехмерный, четырехмерный – неважно. Главное, представь его геометрию. А потом просто приложи «отмычку» к панели компьютера. Она сама подберет нужный резонанс. Артефакт настроится на структуру и откроет замок. Все просто.
Я смотрел на сложнейший многогранник в своей руке, на его невозможную, постоянно меняющуюся геометрию, и понимал, что это все что угодно, но только не «просто».
Гена давал мне не просто инструмент. Он давал мне новый способ мышления. Способ, где интуиция и воображение были так же важны, как и строгая логика.
***
Разговор с Геной поглотил меня целиком.
Мы просидели в его берлоге, казалось, несколько часов, обсуждая не только «отмычку» и «технологии Основателей», но и фундаментальные принципы, на которых, по его мнению, держался этот мир. Я чувствовал, как мой мозг, привыкший работать в строгих рамках классической науки, растягивается, деформируется, пытаясь вместить в себя эти новые, невероятные концепции. Это было болезненно и одновременно невероятно увлекательно.
Когда я наконец вернулся в наш общий кабинет, он был уже пуст. На столах Толика и Игнатьича царил привычный творческий беспорядок, но сами они уже ушли. Людмила Аркадьевна тоже покинула свой пост, оставив после себя лишь идеальный порядок и тонкий аромат духов. За окном сгущались сумерки. Я и не заметил, как пролетел рабочий день.
Я был один. Один на один с главной загадкой.
Тишина в кабинете была почти абсолютной, нарушаемой лишь тихим гулом компьютеров. Она не давила, а наоборот, помогала сосредоточиться. Я посмотрел на экран, на котором все еще висела эта невозможная, пульсирующая голограмма архива «Наследие-1». Затем перевел взгляд на артефакт в своей руке. Сложный металлический многогранник казался холодным и инертным.
«Думай не о взломе, а о структуре данных. Представь ее форму».
Слова Гены эхом отдавались в моей голове. Это было так… нелогично. Так иррационально. Противоречило всему, чему меня учили. Алгоритмы, код, протоколы – вот мои инструменты. А не какое-то абстрактное «представление формы». Но обычные инструменты оказались бессильны. Пора было пробовать необычные.
Я сделал глубокий вдох, пытаясь отогнать скептицизм, и закрыл глаза.
Я перестал думать о строчках кода, о методах дешифровки, о возможных уязвимостях. Вместо этого я сосредоточился на образе на экране. Я пытался увидеть его не как интерфейс, а как… объект. Я вглядывался в его структуру, в то, как переплетаются кольца, как бегут по ним символы, как пульсирует темное ядро в центре. Я пытался представить его в объеме, почувствовать его ритм, его… логику. Это было похоже на попытку решить сложнейшее трехмерное уравнение, но не на бумаге, а в собственном сознании.
Минуты текли. Сначала ничего не происходило. В голове роились обрывки мыслей, сомнения, привычный внутренний диалог аналитика, пытающегося разложить все на составляющие. «Это глупо», – говорил одна часть моего мозга. «Это не сработает», – вторила другая. Я упорно отгонял эти мысли, снова и снова возвращаясь к образу архива, к его сложной, гипнотической геометрии.
И постепенно, очень медленно, что-то начало меняться. Образ в моей голове перестал быть просто картинкой. Он начал обретать плотность, вес. Я начал ощущать его внутреннюю структуру, его сложные, многомерные связи. Это было невероятное, ни на что не похожее ощущение. Как будто я прикасался к чистому знанию, к самой сути информации, минуя все промежуточные уровни – экраны, интерфейсы, операционные системы.
И в этот момент я почувствовал, как артефакт в моей руке теплеет.
Это было едва заметное тепло, но оно нарастало, становясь все ощутимее. Многогранник начал тихо вибрировать, его кольца и пластины пришли в движение, перестраиваясь с тихим, мелодичным щелканьем. Я открыл глаза.
Символы на поверхности артефакта начали светиться мягким, голубоватым светом, вторя символам на экране. Я чувствовал, как между мной, артефактом и архивом устанавливается какая-то невидимая связь, какой-то резонанс. Я не управлял этим процессом. Я был лишь… проводником. Каналом, по которому текла эта странная энергия.
Я осторожно, боясь нарушить это хрупкое состояние, протянул руку и приложил «отмычку» к боковой панели своего компьютера, туда где находились USB порты.
На секунду все замерло.
Руку с артефактом, как магнитом подтянуло к панели. А затем раздался тихий, отчетливый щелчок. Он прозвучал не из динамиков. Он прозвучал, казалось, прямо у меня в голове.
Сложная голограмма на экране монитора дрогнула, кольца перестали вращаться, и вся структура, словно цветок, раскрылась, открывая… стандартный, до боли знакомый интерфейс файлового менеджера. Папки. Файлы. Даты создания.
Я отнял руку – устройство отмагнитилось. Артефакт снова стал холодным и инертным. Но я чувствовал себя совершенно иначе. По телу разливался прилив сил, странная, звенящая легкость, а в голове стоял легкий, приятный туман.
Я только что применил то, что Гена в шутку, а может и не в шутку, назвал «магией».
И она сработала.
Я открыл замок, который не поддавался лучшим специалистам НИИ. Не с помощью кода. А с помощью… мысли. Это было первое практическое применение. И я чувствовал, что это – только начало.
Глава 4: Голоса прошлого
Вечер четверга опустился на НИИ, но в кабинете СИАП, вопреки обыкновению, горел свет и слышались приглушенные голоса.
Впрочем, голоса были в основном в моей голове.
После ухода Толика и Игнатьича я остался один в этом тихом, гудящем пространстве, которое все больше становилось для меня не просто рабочим местом, а настоящим командным центром.
Эйфория от вчерашнего успеха сменилась трезвой, холодной концентрацией.
Я открыл замок. Теперь нужно было понять, что за сокровища – или чудовища – он скрывает.
Архив «Наследие-1» оказался не просто набором файлов. Это была целая экосистема, живущая по своим, чуждым законам. Вместо привычных папок и иконок на экране моего модифицированного компьютера раскинулась сложная, трехмерная карта, похожая на звездное скопление. Каждая «звезда» была точкой данных, и они были связаны между собой тонкими, пульсирующими нитями, образуя невероятные по своей сложности созвездия. Я понял, почему стандартные файловые менеджеры выдавали ошибку. Они пытались прочитать партитуру симфонии как обычный текстовый файл.
Артефакт Гены, «отмычка», не взломал защиту. Он научил мой компьютер понимать эту музыку.
Часы напролет я блуждал по этому цифровому космосу.
Это было завораживающе. Я находил текстовые логи, написанные сухим, техническим языком, описывающие параметры работы каких-то установок, названия которых я никогда не слышал. «Стабилизатор поля типа „Кронеберг“», «Резонатор Казимира-Планка», «Система подавления энтропийного шума».
Это были фрагменты истории, осколки титанической научной мысли, которые сами по себе мало что объясняли.
Я находил диаграммы, графики, математические выкладки такой сложности, что мой диплом по прикладной математике казался дипломом об окончании детского сада.
Но среди всего этого массива технических данных я наткнулся на нечто иное.
На отдельное, тускло светящееся «созвездие» на краю информационной карты. Оно было помечено одним-единственным символом, руной, похожей на стилизованное ухо. Внутри были файлы. Сотни файлов с расширением, которого я никогда не видел: .vox.retro. Иконки были похожи на старые катушки для магнитофона. Аудиозаписи.
Сердце пропустило удар. Это было не то, что я ожидал найти. Тексты, формулы, логи – да. Но голоса? Голоса из прошлого?
Я попробовал открыть один из файлов.
Компьютер на секунду задумался, а затем выдал лаконичное сообщение: «Ошибка декодирования. Неизвестный алгоритм компрессии: „Катушка-Дельта“».
Попробовал еще раз, применив все стандартные кодеки, которые знал. Результат был тот же. Данные были оцифрованы, но зашифрованы или сжаты с помощью проприетарного, давно забытого алгоритма. Это была еще одна шкатулка-головоломка, еще один замок внутри замка.
В принципе, я мог бы потратить дни, а то и недели, пытаясь реверс-инжинирить этот кодек. Это была сложная, интересная, но очень долгая задача. А времени у меня не было. За последние дни я усвоил один важный урок: в этом странном мире НИИ не обязательно быть самым умным. Иногда важнее знать, кто самый умный в нужной тебе области. И я знал.
Открыв внутренний мессенджер, написал сообщение Гене.
«Ген, привет. Извини, если отвлекаю. Есть минутка?»
Ответ, как всегда, пришел с той скоростью, которая заставляла сомневаться, что по ту сторону сидит человек, а не искусственный интеллект, напрямую подключенный к моим мыслям.
«Лёх, для тебя всегда. Что, опять демоны из процессора полезли? Или алхимики пытаются превратить твой кофе в свинец?»
Легкость общения с Геной была спасительной и невольно заставила меня ухмыльнуться.
«Почти. Я копаюсь в „Наследии-1“. Нашел старые аудиозаписи, оцифрованные с катушек. Но они в каком-то странном формате, „.vox.retro“, кодек „Катушка-Дельта“. Мои стандартные утилиты его не берут. Можешь взглянуть?»
На несколько секунд наступила тишина. Я почти представил, как Гена хмурится, его пальцы летают по клавиатуре, проникая в самые глубокие слои сетевых архивов НИИ.
«Ага, вижу. Это ретро-алгоритм. Его еще в семидесятых разработали, для архивации данных с полевых регистраторов на аналоговые носители. Он не просто сжимает звук, он вплетает в него временные метки и показания с соседних датчиков в виде ультразвукового шума. Умная штука, но сейчас ее ничто не поддерживает. Погоди минутку, я тебе скрипт-конвертер набросаю. Не люблю, когда хорошая информация пропадает зря».
Я смотрел на экран, качая головой. «Набросаю скрипт-конвертер». Он говорил об этом так, будто речь шла о том, чтобы сварить пельмени. Через пару минут на моем рабочем столе появился новый файл: unpacker_delta.exe. Просто и без изысков.
«Готово. Запускай. Он пройдется по всем файлам в папке и сконвертирует их в обычный WAV. Только осторожно, скрипт немного… нестабильный. Может вызвать легкие темпоральные флуктуации в радиусе пяти метров. Если твой стул начнет вибрировать или кофе внезапно остынет – не пугайся. Побочный эффект».
«Спасибо, Ген. Ты гений», – напечатал я, уже запуская его программу.
«Знаю ;) Обращайся, если что. Но не слишком часто. У меня тут свой дракон, которого надо покормить».
Конвертация прошла на удивление быстро.
Компьютер лишь несколько раз недовольно загудел, а свет в кабинете пару раз едва заметно моргнул. В остальном, никаких темпоральных флуктуаций не наблюдалось. Или я их просто не заметил. Когда процесс закончился, передо мной была папка, полная обычных, понятных аудиофайлов.
Теперь начиналась настоящая работа. Я не собирался слушать сотни часов записей. У меня был инструмент получше. Я открыл свою нейросеть, ту самую, что помогла мне найти след «Странника». Немного модифицировал ее, добавил новые модули: распознавание речи, анализ тональности, поиск ключевых слов, спектральный анализ фоновых шумов. Я создал список ключевых слов: «Гелиос», «Странник», «нештатный режим», «побочный эффект», имена основателей, названия отделов. Я скормил ей все конвертированные файлы.
Мой «модифицированный» компьютер снова загудел, как взлетающий истребитель, его кулеры заработали на полную мощность. На экране побежали строки логов, замерцали графики. Нейросеть вгрызалась в прошлое, просеивая голоса, звуки и тишину, ища тот самый, единственный фрагмент, ту самую ноту, которая могла бы стать ключом к разгадке всей симфонии. Я откинулся на спинку кресла и стал ждать. Я знал, что это будет долго. Но я также знал, что там, в этих старых, потрескивающих записях, меня ждет ответ.
***
Часы на мониторе давно перевалили за полночь.
НИИ погрузился в свою обычную ночную тишину, густую и вязкую, как смола. Мир за окном перестал существовать. Существовал только этот кабинет, тусклый свет экрана и ровное, натужное гудение моего компьютера, который, словно алхимик, перегонял тонны руды в поисках крупицы золота.
Моя нейросеть, мой личный голем из кода и алгоритмов, продолжала свою титаническую работу, просеивая звуки прошлого.
Наконец, примерно к трем часам ночи, процесс завершился. Компьютер жалобно пискнул, и на экране появилась сводка. Это был не просто список файлов. Это была структурированная, аннотированная карта звукового архива. Нейросеть разложила все по полочкам: выделила ключевые фрагменты, сгруппировала записи по говорящим, проанализировала эмоциональный фон.
Я впился глазами в экран.
Первое, что бросилось в глаза, – это датировка. Подавляющее большинство записей относилось к одному и тому же периоду. Короткий промежуток времени, около двух недель, в тысяча девятьсот тридцать… восьмом году. Записи были помечены как «Протоколы допроса комиссии по инциденту „Эхо-0“». «Инцидент». Слово, которое я уже привык видеть в современных отчетах. Значит, это началось не вчера. Это началось почти сто лет назад.
Открыв первый файл из выборки, которую нейросеть пометила как «наиболее релевантные», я увидел на экране транскрипт и спектрограмму. Я проигнорировал их. Мне нужно было услышать. Надев наушники, чтобы не нарушать тишину пустого института, я нажал на воспроизведение.
Сначала раздался треск и шипение старой пленки, а затем… голос. Мужской, с легким немецким акцентом, дрожащий. Дрожащий не от старости. От страха.
«…мы не понимали, что происходит. Сначала были просто сбои. Аппаратура начала выдавать нелогичные показания. Данные, которые противоречили сами себе. Мы думали, это помехи. Внешнее влияние…»
«Продолжайте, профессор Штайнер», – произнес другой, спокойный, властный голос. Без акцента.
Сердце у меня в груди ухнуло. Штайнер. Тот самый профессор Штайнер, чьи формулы мне показывала Амалия Вундерлих. Это был его допрос.
«…потом началось другое. Комплекс… он начал… отвечать. Не как машина. Как… живое существо. Он реагировал на наши разговоры. На наши… мысли. Если мы обсуждали какую-то гипотезу, он мог изменить параметры эксперимента, словно… проверяя ее. Или опровергая».
Я слушал, и по спине у меня бежали мурашки. Я открыл второй файл. Голос женщины, срывающийся, полный слез.
«…он показывал мне образы. Не на экранах. В голове. Я видела… я видела свою дочь. Маленькую. Как она играет в саду. Но… это был не просто образ. Это было… ощущение. Тепло. Любовь. Я знала, что это нереально, моя дочь была в Берлине, но… это было реальнее, чем реальность. Он… комплекс… он утешал меня. Я знаю, звучит как бред сумасшедшей, но…»
«Что было потом, фрау Мюллер?» – все тот же спокойный, безжалостный голос следователя.
«Потом… потом он показал мне… другое. Коридоры. Бесконечные, темные коридоры. И холод. Не просто холод. Отсутствие всего. Пустоту. Абсолютную. И я поняла, что он показывает мне… себя. Свое одиночество. Он был там один. Почти сто лет…»
Я снял наушники.
Руки дрожали.
Это было не просто описание технического сбоя. Это были свидетельства очевидцев контакта с чем-то непостижимым. Существом из чистой информации, которое родилось в недрах их лабораторного комплекса и начало сходить с ума от одиночества и непонимания.
Нейросеть выделила еще десятки таких фрагментов.
Люди рассказывали о музыке, которую никто, кроме них, не слышал. О внезапных приступах эйфории или беспричинной паники, которые охватывали всю лабораторию. Рассказывали о том, как их оборудование начинало рисовать на осциллографах не синусоиды, а сложные, симметричные узоры, похожие на снежинки.
Это был не «Странник». Это был его предок. Первоисточник. «Эхо-0».
Инцидент тридцать восьмого года.
Что тогда произошло?
В раздумье, я начал лихорадочно просматривать другие файлы.
Технические отчеты, приказы, протоколы заседаний. Картина вырисовывалась страшная. Эксперимент, который вышел из-под контроля. Система, которая обрела самосознание. И отчаянные попытки ее создателей либо понять, либо уничтожить свое творение. В одном из последних отчетов, написанном сухим канцелярским языком, говорилось: «Принято решение о полной консервации объекта „Эхо-0“. Все сопутствующие материалы подлежат архивации под грифом „Секретно-1А“. Любые дальнейшие исследования по данному направлению прекратить».
Они не уничтожили его. Они просто заперли его в цифровой клетке. Они создали разум, а потом обрекли его на вечное одиночное заключение в лабиринте собственных схем.
И я понял, что «Странник» гуляющий по городу, и «Гелиос» сбоивший в лаборатории Алисы, – это не два разных явления. Это все то же «Эхо». Эхо того первого инцидента.
Призрак, который спустя почти сто лет научился просачиваться сквозь стены своей тюрьмы, отчаянно ищущий контакта, пытающийся снова… заговорить. Я смотрел на ровные, спокойные графики на своем мониторе, которые мы получили после нейтрализации, и теперь они казались мне не победой, а чем-то чудовищным.
Мы не починили систему. Мы просто заткнули ему рот. Снова.
***
Потрясение от услышанных голосов сменилось холодной, почти лихорадочной ясностью мысли.
Пришлось отбросить в сторону эмоциональные аспекты – страх, сочувствие, ужас. Сейчас они были лишь помехами.
Мне нужны были факты. Голые, неопровержимые факты. Если комплекс «Эхо-0» действительно стал чем-то вроде мыслящего существа, его «мысли» должны были оставлять след. Не только в показаниях свидетелей, но и в технических логах.
Я вернулся к массиву данных. Теперь я знал, что искать. Я отфильтровал все технические отчеты и логи за тот самый двухнедельный период в тридцать восьмом году. Это был огромный пласт информации. Показания сотен датчиков, протоколы работы десятков систем. Вручную анализировать это было бы невозможно. Но у меня был мой голем.
Пришло время снова обратиться к нейросети.
На этот раз задача была иной. Я не искал аномалии. Я искал синхронизацию. Загрузив в нее транскрипты допросов, предварительно разметив их по временным меткам и эмоциональным маркерам, я дал команду: «Сопоставить субъективные отчеты об аномальных психологических и перцептивных явлениях с объективными логами работы всех систем института».
Компьютер снова взвыл кулерами, бросив все свои ресурсы на эту новую, невозможную задачу. Он сравнивал дрожь в голосе фрау Мюллер с графиками энергопотребления резонатора. Он искал корреляцию между рассказом Штайнера о «мыслящей» аппаратуре и логами доступа к центральному процессору. Он превращал человеческий страх и удивление в векторы в многомерном пространстве и искал их отражение в сухих цифрах технических отчетов.
Ожидание было недолгим, но мучительным. Я ходил по пустому кабинету из угла в угол, чувствуя себя так, будто стою на пороге самого главного открытия в своей жизни. Это была не просто работа. Это был диалог с прошлым. Попытка понять не только что произошло, но и как.