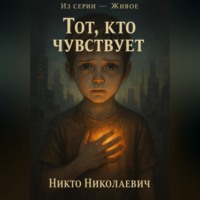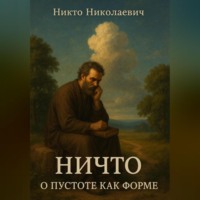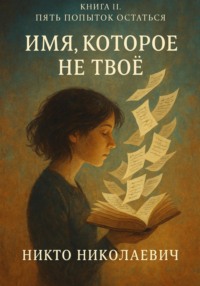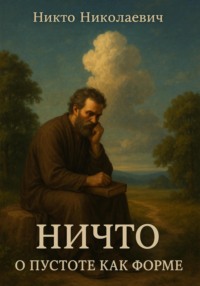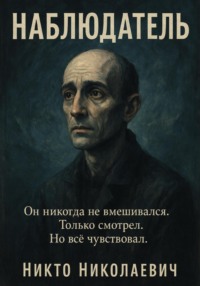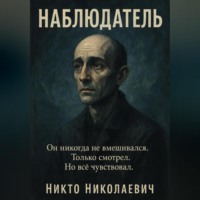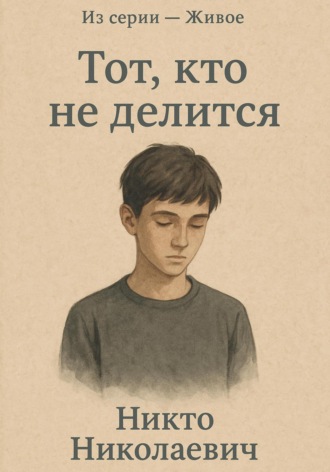
Полная версия
Тот, кто не делится
Влюбленные стали встречаться у воды – не чтобы целоваться в эфир, как раньше, а чтобы молчать. Они сидели рядом и смотрели на мерцающую поверхность. Люди проходили мимо и говорили: «Смотрите, новые тишинники». Кто-то снимал их издалека. На видео ничего не происходило. В комментариях писали: «Как красиво». Город впервые признал красоту того, что не приносит рейтинга.
Старики, уставшие объяснять молодым, что тишина – это тоже язык, перестали объяснять – и молодые стали понимать быстрее. В один из вечеров дед и внук шли вдоль трамвайных путей и молчали. «Что это?» – спросили у них. Внук сказал: «Мы слушаем город». Дед улыбнулся так, как люди улыбаются на фотографиях, которые не будут опубликованы.
Официальная статистика показала неожиданный рост: «уровень жалоб на чужой контент» вдруг снизился. Людям стало меньше чего ненавидеть. Они слишком были заняты тем, чего не могли показать. Иногда именно не показываемое лечит лучше всех.
Власть выпустила «Белую книгу»: аккуратные страницы, ровные шрифты, объяснение механики слуха, ссылки на исследования, графики, диаграммы, цитаты из одобренных философов. В конце – пустая страница «для вашего слова». Люди ставили туда точку. Просто точку. В отделе аналитики ломали голову: «Что значит точка?» Они не знали, что точка – это дыра, только грамотно очерченная.
И всё же были и те, кого слух калечил. Женщина, потерявшая сына много лет назад, вдруг услышала от соседки: «Зей – это он, вернулся». Женщина расплакалась и двое суток не выходила из дома. Слух не знает жалости – он не предназначен для адресата. Он всегда – «для всех», а значит, ни для кого. На третий день женщина вышла и сказала в камеру: «Спасибо, что дали мне ненадолго еще раз ждать». Город поставил ей тысячу сердечек. Сердечки – это способ извиниться, когда не знаешь, за что.
На детских куртках начали появляться самодельные нашивки: маленький черный квадрат, вышитый неумелыми пальцами. Мамы пытались отпарывать, дети пришивали заново. «Это просто мода», – успокаивали себя родители. Мода – это самый безопасный способ протащить смысл мимо охраны.
Однажды под дверью оставили листок без подписи. В нём было всего одно предложение: «Он может быть каждым, кто перестал объяснять». Листок держали в руках, как снимок без людей – только свет. Потом убрали в книгу без названия. Так хранят то, что нельзя назвать.
К «Линиям чистого слова» прибавили «Линии тихого слова». Там можно было молчать в трубку. Оператор слушал молчание и говорил: «Спасибо за откровенность». Люди плакали, потому что впервые их молчание признали поступком. На следующий день в городской ленте появилось: «Резкий рост обращения на линии поддержки». Никто не написал: «В городе научились говорить без звука».
И всё это время Зей не появился. Он не писал писем, не рисовал на стенах, не присылал звуков без дыхания. И тем сильнее становилась его жизнь – жизнь, которую придумали за него. В какой-то момент стало ясно: Зей – это уже не он. Это место. Это форма. Это пустая комната, в которую каждый вошёл со своим. И комната не стала меньше.
Одна девочка, тонкая, как карандаш, сидела у окна и писала письмо. Она не знала адреса. Письмо начиналось так: «Ты мне ничего не должен. Просто молчи рядом, если услышишь». Её пульс отбивал ровную дробь – как дождь по подоконнику. Девочка запечатала письмо, не написав имени получателя. Внизу на конверте было: «Никому». Это значило – «тебе». В этом городе одно слово иногда укрывает два смысла, как одеяло – двоих.
Так заканчивался день, в который слухи без автора окончательно стали авторами без слуха. Город, привыкший подписывать даже крошку хлеба, впервые остался с вещью, на которую нельзя было наклеить этикетку. Эта вещь дышала. И вместе с ней дышали улицы, стены, окна – всё, что умело молчать. В груди у людей впервые за долгие годы был не рейтинг, не комментарий, не лайк, а просто воздух. Воздух, который никому не принадлежал.
Глава 3. Девочка пишет письмо
Город к тому моменту вымотался. Люди устали от множащихся слухов, от собственных же шепотов, от того, что каждое утро начиналось не с кофе и завтрака, а с проверки: «а что сегодня сказали про него?» Парадоксально, но именно молчание одного мальчика сделало голоса миллионов невыносимыми. Казалось, что слова сами превратились в комаров: вездесущие, жужжащие, бесполезные. Они пили внимание, оставляя зуд, и никто не знал, как его унять.
Власти запустили новые фильтры: теперь даже обычные реплики проходили проверку. На экранах иногда вспыхивало красное предупреждение: «Фраза требует подтверждения источника». Люди, обиженные этим, чувствовали себя подозреваемыми каждый раз, когда говорили «доброе утро» или «сегодня холодно». Даже утро и холод теперь нуждались в аттестации.
Но одна девочка – тонкая, бледная, будто сама сделанная из тетрадного листа – не спорила с этим миром. Она просто вынула настоящую тетрадь, ту, в которую раньше записывали задачи и стихи, и начала писать. Ей было четырнадцать, и никто толком не знал её имени: в эфире оно терялось среди прочих. Она сидела на подоконнике, обхватив колени, и писала письмо.
Она не знала, куда его отправить. У Зея не было канала, он вышел из эфира. Значит, письмо не могло быть доставлено. Но в этом и заключался смысл: письмо не как сообщение, а как дыхание. Она не надеялась на ответ. Она даже не была уверена, что сама доживёт до конца текста – внутри нее все дрожало от того, что она делает что-то невозможное: пишет в сторону, а не в поток.
«Ты ничего мне не должен, – начинала она. – Никому ты ничего не должен. Но я хочу сказать тебе, что когда ты исчез, у меня впервые появился я». Она вычеркнула эту фразу, потом снова написала. Слезы капнули на буквы, чернила расплылись, и ей показалось, что это честнее: пусть буквы сами утонут в воде.
Она писала о том, что город стал слишком громким, что люди разучились различать себя и чужое. «Я хочу иногда быть закрытой, как книга на полке. Я хочу, чтобы никто не читал мои поля. Я хочу, чтобы хоть что-то оставалось внутри. Когда ты молчишь, мне кажется, что я тоже могу».
Иногда она останавливала руку и слушала, не дышит ли комната вместе с ней. Ей казалось, что стены знают, что она пишет. Она боялась камер, но удивительно – в этот момент камеры как будто отворачивались. Может быть, тишина делает невидимым.
Она переписывала письмо несколько раз. В одном варианте писала: «Я боюсь. Все смеются, но я боюсь». В другом: «Я злюсь. Злюсь на них, на себя, на всех». В третьем – «Я хочу встретиться». Каждый вариант казался слишком слабым. В конце концов она оставила всё. Потому что письма честны только тогда, когда противоречат сами себе.
Она спрятала письмо в конверт. На нём написала: «Никому». Это значило – «тебе». В городе иногда одно слово укрывает два смысла, как одеяло – двоих.
Её отец позвал ужинать. Она спрятала конверт в тетрадь, ответила громко: «Скоро!» – и впервые поймала себя на том, что слова в эфире звучат как ложь, даже когда это правда.
Вечером она вышла на улицу и положила конверт в почтовый ящик. Почта давно не работала – письма были анахронизмом, их заменили мгновенные потоки. Но ящики всё ещё стояли: ржавые, ненужные, как напоминание о прошлом. Она опустила письмо, и оно мягко упало в темноту.
И в эту минуту ей показалось, что город вздохнул.
Ночью почтовый ящик стоял, как забытая собака, и молчал. Дождя не было, но внутри пахло мокрым железом, старой бумагой и чем-то ещё – терпким, как терпение. Письмо лежало там и было одновременно ненужным и необходимым: ненужным системе и необходимым той части нас, которая всё ещё умеет ждать не ответа, а присутствия.
Утром дворник, аккуратный седой человек, открыл ящик ключом, который давно не поворачивал ничего важного. Он привык находить внизу пустоту, иногда – рекламу, реже – тёплые ругательства. Сегодня он нашел конверт. Прочитал «Никому», усмехнулся так, как усмехаются старики при виде детской серьезности, и повертел конверт на свет. Солнце не сообщило ему адресата. Дворник положил письмо в карман, отнес в свою комнатку со швабрами, поставил на шкаф стакан с водой и положил сверху конверт, как кладут на книгу очки – чтобы помнить, где остановился. Он думал: «До обеда доживет, а там решу».
В это же утро город раскачивался после привычного разгона новостей: графики прозрачности, рекомендации по питанию, объявление о новом параде «За ясность». Люди листали ленту, как пряди волос: автоматическим движением, не замечая, что рука гладит пустоту. Девочка шла в школу и не смотрела в экран. Её глаза были заняты воздухом – тем самым, у которого нет лайков.
На первом уроке учительница попросила написать «письмо себе через год». В классе зашуршала бумага. Девочка улыбнулась: мир иногда играет в совпадения. Она написала: «Если ты выросла, не забудь остаться маленькой там, где не надо объяснять». Потом нарисовала маленький черный квадрат – не симпатичный, не идеальный, просто – место, куда можно смотреть без свидетелей. Сосед по парте шепнул: «Опять про него?» Девочка не ответила. Её «нет ответа» было самым честным ответом на свете.
Дворник тем временем сварил себе чай, открыл конверт и прочитал. Бумага пахла чернилами и чем-то морским, хотя до моря здесь было далеко. Он читал медленно, как читают молитвы, в которых не всё понятно, но всё – необходимо. В конце он снял шапку и положил письмо обратно. «Куда тебя отнести?» – спросил он и почувствовал себя нелепо: бумага не отвечает. Он вытер ладони о фартук, вышел во двор и увидел на стене свежую надпись мелом: «не входить без себя». Он не знал, что эти слова уже снились городу. Он просто кивнул стене – она была честней многих людей, – и пошёл.
Письмо оказалось лёгким и тяжёлым одновременно: лёгким, потому что почти ничего не весило, тяжёлым, потому что в нём лежало то, чего не поднимают вдвоём – чужое «я». Дворник отнес конверт в ближайший храм Прозрачности: там любили бумагу – на ней печатали инструкции по свету. У входа сидела женщина с добрыми глазами. «Для кого?» – спросила она. «Для Никого», – ответил он, и она на миг подумала, что услышала имя Бога. Женщина взяла конверт бережно, как берут младенца, и положила в прозрачный ящик «Слова без авторов». Туда чаще бросали признания, написанные ради приличия. Это письмо отличалось тем, что в нём было не приличие, а просьба.
В полдень в храм заглянула девочка – не за лайками, не за отпущением грехов, а чтобы постоять в прохладе. Её взгляд скользнул по ящику и задержался. Она узнала свой почерк по неровности букв, как узнают себя в зеркале по шраму на брови. Ее сердце сделало два быстрых удара и один медленный. Она не подошла ближе. Она поняла: письмо уже не её. В этом и был смысл. Письма становятся настоящими только тогда, когда перестают принадлежать отправителю.
К вечеру в храме начался час «тихий голос»: священники эмоций предлагали всем желающим сесть в круг и послушать, что будет, если не говорить. В центр круга поставили прозрачную коробку – не пустую, полную того, что не видно. Женщина с добрыми глазами поставила туда листок с надписью «Никому». Никто не читал вслух. Люди просто сидели. У кого-то дрожали ладони, у кого-то – веки. Тишина была похожа на музыку без нот: ясно слышно, трудно назвать.
На исходе часа в храм вошёл мальчик – не Зей, конечно, но город научился видеть его в любом мальчике с худыми запястьями. Он стоял у дверей, как у воды: не заходил, но и не уходил. Его взгляд скользнул по коробке, задержался на конверте и ушёл дальше – будто проверил, что письмо не врет. Потом мальчик развернулся и исчез. Ему не нужен был эфир, чтобы быть событием. Достаточно было того, что кто-то сидел в тишине и держал руки на коленях – так, как держат в поездах вещи, которые нельзя потерять.
Дома девочка открыла тетрадь и написала второе письмо – не потому что первое было плохим, а потому что расстояние между «сказала» и «досказала» редко меньше ночи. «Я не прошу тебя появиться, – писала она. – Я прошу тебя не исчезать во мне. Если никто не услышит, это всё равно будет. Я попробую выучить твой язык – язык пустоты. Он, кажется, состоит из пауз, которые не переносят на новую строку». Она нарисовала на полях крошечные ступени – чтобы могла спускаться к себе, если наверху станет слишком светло.
Во дворах, где обычно бегают дети и ругаются взрослые, поднялся новый ветер: кто-то шептал, что «девочка написала ему». Слух, как всегда, не нуждался в адресе. «Она написала и получила ответ». «Она написала и потеряла голос». «Она написала, и дроны прилетели к её дому». Девочка проходила мимо этих фраз, как мимо витрин: в каждой было отражение, ни одно – не она.
В школе учитель литературы взялся читать вслух письма классиков – те, что писали без адреса и получали ответ в столетиях. Девочка слушала и думала: «Значит, не мы первые». Из окна классу виден был старый почтовый ящик во дворе. Он блестел на солнце, как старая пуговица, пришитая к новому пальто. В перерыве девочка подошла к окну и увидела, как дворник поправляет ящик, как врач поправляет пациенту подушку.
На соседней улице женщина нашла под дверью конверт без подписи. Внутри было пусто. Она долго держала его и почувствовала, как возвращается исчезнувший когда-то запах детства: пыльные гардины, деревянный подоконник, свет полосами. Она плакала тихо – не потому что было больно, а потому что кто-то отдал ей пустоту в долг. Она не знала, что это не «то самое письмо». Но письма иногда расползаются сами: одно написано, десять – услышаны.
Департамент гармонии, обеспокоенный «ростом бумажной нелояльности», выпустил циркуляр: «Рекомендуем переводить «письменные импульсы» через авторизованные платформы». Девочка прочитала это и засмеялась – беззвучно, чтоб никого не обидеть. Перевести через платформу – это как исповедаться в громкоговоритель. Бог устал бы.
Вечером она пошла к реке. Река в городе была как редкое слово – его берегли. Она села на бетонный откос, вынула третье письмо и не написала ни слова. Просто держала чистый лист над водой. Вода смотрела на лист и морщилась от своей же крошечной зависти: вода течет всегда, бумага может стоять. Иногда стоять – роскошь.
Над городом прошел дрон. Он не снимал её близко – его объектив побоялся испортить кадр молчанием. Где-то выше, в комнате с мягкими креслами, человек с тихими глазами увидел на экране эту маленькую фигуру на фоне воды и сказал: «Не трогать». Его коллега спросил: «Почему?» – «Потому что это не зрелище. Это настройка». Они не знали, что только что сказали правильное слово. Письма настраивают. Не как антенны – как слух.
По дороге домой девочка заметила на асфальте мелкие белые крошки – кто-то писал и стирал, писал и стирал. Она согнула колено, как это делают дети, которые еще умеют садиться на землю, и добавила одну линию. Это не было ни словом, ни рисунком – скорее, складкой в воздухе. Рядом кто-то негромко кашлянул. Девочка подняла голову: старик с добрыми глазами кивнул ей и ушел, опираясь на свой веник. Его венику было всё равно, что подметать – слухи, листву, сердечки. Он знал: всё это – пыль, только разная по вкусу.
Дома она нашла под дверью маленький камешек, на котором черной ручкой было написано: «слышу». Камешек был теплым, как ладонь. Она взяла его – не как улику, как поручень. Положила на подоконник рядом с тетрадью. Не спросила «кто». В этом и была ее новая вежливость.
Ночью город опять видел общий сон. В нём была комната с открытым окном, за окном – тёмная вода, у окна – письмо, не запечатанное. В комнату входил ветер и читал без голоса. Наутро департамент сна дал комментарий: «Эффект сквозняка». Люди кивнули. Сквозняк – редкое официальное признание того, что воздух умеет ходить сам.
На третий день девочка проснулась раньше всех и поняла, что письмо стало тяжелее. Не потому, что в конверт положили камни, – просто внутри неё появилось то, чего нельзя переложить на стол. Она пошла в храм и увидела, что коробка пустая. «Куда?» – спросила у женщины с добрыми глазами. «Дальше», – ответила та. Девочка улыбнулась. Нет лучшего адреса, чем «дальше».
Письмо ушло гулять по городу. Как? Просто. Его брали в руки те, кто его не ждал, складывали в карманы на день, грели, возвращали, передавали, забывали на подоконниках, находили в книгах между страниц, где когда-то сушили листья. Где-то кто-то читал вслух – не слова, а паузы между ними. Где-то – просто держал у груди и стоял в лифте, не глядя в камеру. Где-то – оставлял на столе в Пункте Признания, и тамошний доброжелатель впервые в жизни молчал весь приём. Вечером люди уходили домой и не понимали, почему день прошел легче, чем вчера. Лёгкость – эффект побочный, о нём не пишут в инструкциях.
Девочка написала четвёртое письмо. Короткое: «Я здесь». Положила в карман и не отнесла никуда. Носить «я здесь» – труднее, чем посылать «я с тобой». Её рука пару раз тянулась к почтовому ящику, но она останавливала движение, как удерживают чих – смешным и героическим усилием. Вечером достала письмо, прочитала себе вслух и засмеялась. Потом плакала. Слёзы и смех – два способа сказать «правда» без слов.
В школе начались «уроки адреса». Детей учили правильно указывать получателя, отправителя, индекс, дату, согласие на обработку чувств. Девочка написала на чистом листе «Никому» и положила сверху своё имя, как положила бы ладонь на рану. Учительница посмотрела и ничего не сказала. Иногда лучшие учителя – это те, кому нечего добавить.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.