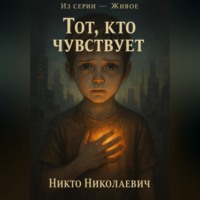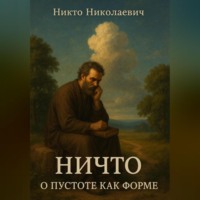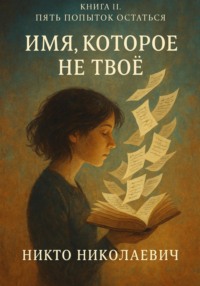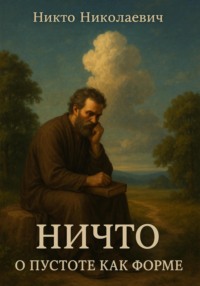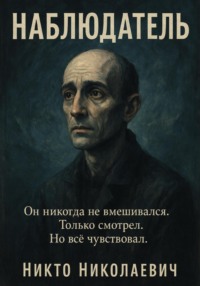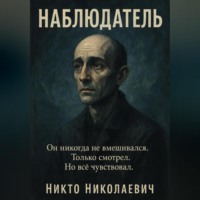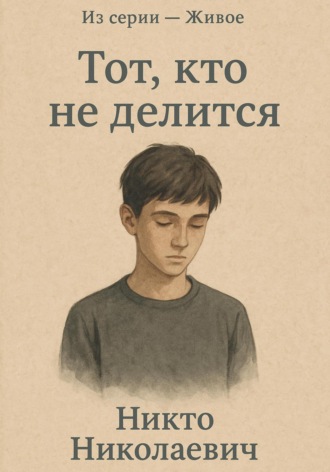
Полная версия
Тот, кто не делится
Город любил праздники так же, как ребёнок любит сладкое – до липкости пальцев. Самым клейким был Праздник Прозрачности. На центральной площади вырастали экраны выше домов, и на них, будто на алтарях, показывали «самых открытых» – тех, кто добровольно и с песней превратил свою жизнь в непрерывный урок анатомии души. «Смотрите, – кричал ведущий с голосом, натренированным обнадёживать, – Марина весь год делилась без остатка! Снами, страхами, тревогами, приступами ревности, даже мыслью “а может, зря родила второго”. Марина, поднимайтесь!» Толпа ревела, как море, когда в него бросают старую лодку. Марина стояла на сцене – пустая, как жвачка без сахара, счастливая, как пустой стакан, в котором больше не стучит жажда. Ей надевали венок из светодиодов. Ведущий произносил формулу:
– Спасибо, что у вас ничего при себе!
И Марина плакала прямо в объектив – её слёзы доживали в городе до рассвета в виде набранных лайков.
У «Пунктов Признания» всегда были очереди. Они напоминали аптечные, только лекарства выдавали участники сами себе. В кабинках – мягкий свет, камера на уровне глаз, стеклянная ширма, за которой сидит «доброжелатель», официальный свидетель: слушает, кивает, иногда вытирает глаза платочком. Человек садился и говорил: «Я позавидовал коллеге». «Я съел чужой йогурт». «Мне приснилось, что я утопил кота». «Я думаю, что сосед – идиот». Это снимало груз, а иногда груз только прибавляло – но прибавляло правильно, коллективно, управляемо. Зависть становилась данными для департамента гармонии, чужой йогурт – поводом для корпоративного тимбилдинга, кот – рекомендательной визой к психотерапевту, сосед – объяснительной на дверях подъезда. Вина перестала быть движением внутрь; она стала маршрутом по ведомствам.
Существовали профессии, которые в любое другое время выглядели бы шутками. «Редакторы эмоций» – аккуратные люди с тёплыми голосами – подкручивали насыщенность переживаний в эфире, если зрителям становилось тяжело. «Корректоры правды» – убирали огрехи речи, чтобы признания звучали гладко. «Модераторы снов» – удаляли фрагменты, которые могли травмировать слабонервных, и добавляли пару звёздочек в небо – чтоб красивее. Их работа называлась «гигиеной контента». Люди благодарили. Никто же не любит, когда ему показывают жизнь без косметики. Даже жизнь.
Но всё это – только поверхность, вежливые волны на озере, под которым живёт рыба с острыми зубами. Под поверхностью звенел страх: а вдруг кто-то сумеет не делиться. Не технически – браслеты умели чинить быстро, – а по-настоящему, внутренним «нет» на внутреннем языке, который не переводится на пиксели. В департаменте гармонии висела диаграмма «уровень прозрачности/уровень доверия»: когда линия прозрачности падала на полпроцента, в городе усиливали кампании «Откройся – тебя поймут», меняли цвета на более пастельные, увеличивали количество «вдохновляющих историй». Надо было верить, что прозрачность – это любовь. Иначе всё разваливалось на куски.
Дома вечером говорили шёпотом – не потому что камеры не слышали, а потому что шёпот создаёт иллюзию тайны, а иллюзия – слабое подобие лекарства.
– Зато никто не врёт, – говорил муж, целуя жене ладонь.
– Зато я больше не знаю, кто ты, – отвечала она, не вынимая пальцев. – Я знаю только, что о тебе думает город.
– Но это же и есть я, – жалко улыбался он. – Я – для них.
– А для себя?
Тут камера деликатно делала зум на чайник и на пару секунд показывала кипящую воду. Гигиена контента: приватная боль – это слишком, но намёк на неё – полезен для эмпатии зрителей.
Официальная история города рассказывалась как притча о спасении. Когда-то здесь было темно – темнота кормила ложь, ложь рожала насилие, насилие вырастало в войну. Потом пришёл Свет – и все стали добрее. В этой истории отсутствовал вопрос: что ещё покормил Свет. Свет охотно кормит самолюбие, суету, зависть – ведь теперь всё видно и сравнивать легко. Свет раздувает в душе осиное гнездо состязательности: кто честнее, кто прозрачнее, кто быстрее признаётся в том, что другие прячут. На Празднике Прозрачности однажды выступил мальчик десяти лет и прочитал заученный текст: «Я горжусь, что нам нечего скрывать. Это значит, что мы чистые». Ему аплодировали стоя. Через месяц этого мальчика привели в Пункт Признания – он украл у друга маленькую железную машинку и не рассказал сразу. «Я запачкался?» – спросил он дрожащим голосом. «Ты нас задержал, – ответил доброжелатель ласково. – Но ничего, мы теперь идём дальше вместе». Пятно стыда разошлось на глазу камеры изящной лужицей.
Раз в месяц город устраивал «общее сновидение». Это был гражданский ритуал, почти религиозный: в назначенный час все – от младенцев до начальников кварталов – ложились спать, и система соединяла сны в единый поток. Его показывали на площади, как дешёвый космос, и говорили: «Вот как мы чувствуем сегодня». Иногда во сне было море и солнце – и тогда в магазинах заканчивались купальники. Иногда – пожар – и тогда департамент безопасности читал лекции о важности плановых эвакуаций. Иногда – чёрный экран. Чёрный экран не объясняли; его называли «глюком». Люди расходились по домам в странном, неприличном возбуждении: кажется, кто-то не показал.
Школы тем временем оттачивали практику «эмоционального диктанта». «Опишите точно, что вы сейчас чувствуете к однокласснику слева», – писала учитель на электронную доску, и камеры дружно опускались на ряд лиц. Кто-то рыдал. Кто-то смеялся. Кто-то молчал, и его молчание вешали на общую стену «сложных случаев» – их кураторы разбирали на методических советах, как старые механики разбирают мотор: где заело, чем смазать, что заменить у родителя, чтобы ребёнок лучше делился.
Соседские чаты жили своей шумной жизнью. «У Анны опять тишина в двенадцать ноль-ноль, это уже третий четверг подряд». «Может, она занимается любовью?» – улыбался кто-то. «Не путай правду с шуткой», – отрезали модераторы микрорайона. Они были, кстати, самыми уставшими людьми в городе – между «дать людям быть» и «сохранить прозрачность» натягивалась верёвка, и по ней приходилось ходить в туфлях с тонкими каблуками, улыбаясь и не глядя вниз.
В департаменте гармонии работал мужчина с тихими глазами. Он любил музыку, но музыку здесь слушали тоже «на показ», а он любил ту, которую можно слушать наедине. Он включал её ночью на минимальную громкость и ставил чашку с водой на крышку колонки – смотреть, как дрожит поверхность, и угадывать аккорд по узору волн. Это было преступление не юридическое, а внутреннее: преступление красиво жить без зрителя. Утром он надевал аккуратный пиджак, шёл в офис и уверенно рисовал графики доверия, убеждая коллег, что людям стало легче. Ему верили. Он и сам хотел верить. Вера – это когда не слышишь собственных струн, потому что оркестр играет слишком громко.
Иногда ночью в городе становилось тихо, как в лесу, который резко вспомнил, что он лес. Это длилось секунды – короткий сбой на линии питания, каприз старой подстанции, усталость звезды. Камеры моргали, экраны кашляли цифровым снегом, таблички ПОКАЗ ОБЯЗАТЕЛЕН тускнели, как глаза рыбы на рынке. В эти секунды люди вздрагивали – голые, как в первый день мира, – и некоторые успевали дотронуться до своей груди, убедиться: сердце, ты со мной? Сердце отвечало глухо и веско: тук. Свет возвращался, и все облегчённо смеялись: «Оп! пропал и нашёлся». В чатах писали: «Починили». Никто не писал: «Жаль».
Одна женщина пришла в Пункт Признания и сказала: «Я не хочу делиться». Доброжелатель, молодая, красивая, с ресницами как камыши, вздрогнула – так, как вздрагивают, когда в комнате неожиданно пахнет детством. «Почему?» – спросила она профессионально. Женщина пожала плечами. «Потому что это моё». «Но ведь – вместе легче». «Вместе – удобнее», – сказала женщина, и её голос был сух, как хлеб без супа. «А я хочу – не удобства». Историю пустили в эфир, смягчив углы, добавив тепла в голос, подарив зрителям правильную мораль: иногда людям нужно чуть больше времени. Но по городским квартирам ещё долго ходила необработанная версия – её пересказывали шёпотом, и в шёпоте она звучала как колокол.
Религия Прозрачности имела свои храмы – открытые павильоны на площадях, где свет ложился на лица как благословение. На стенах висели иконы из живых аватаров «самых честных» – они улыбались, плакали, умирали красиво. Люди приходили, ставили сердечки – мягкие электронные свечи, – и уходили с ощущением, что сделали добро. Сомнение записывалось в книгу «сложных чувств» и перерабатывалось в силу: «Сомневался – поделился – освободился». Всё было по форме безупречно. Содержание тихо хлюпало где-то под сценой.
По вечерам город смотрел «судебные эфиры». Это был жанр, где мораль подавали горячей, без соли – она и так была в воздухе. Вот мужчина, ударивший соседа. Вот девушка, которая скрыла измену. Вот подросток, обругавший учительницу в мыслях и не поделившийся этим в «Пункте». Зрители голосовали в прямом эфире: «простить/наказать», и суд подстраивал приговор под волю общины. Демократия – такое красивое слово. Оно прекрасно сочетается с фасадом.
В департаменте сна «модераторы снов» играли в Бога. Они умели наклонять луну, подкручивать тень, отмывать кровь с простыней ночи. Однажды им попался сон, который не поддавался ни одной щетке. Чёрный, как выключенный экран. Его записали как «повреждённый файл» и выдохнули. Чёрных файлов стало больше. Кто-то в отделе шепнул: «А что, если это не поломка, а выбор?» Его перевели в другой отдел – «внутренней среды», где шепчут только статистике.
Дальше слух прошёл быстро, как пламя по сухой траве. В одном квартале, говорили, появился мальчик, который не делится. В другом добавляли: не делится ничем – ни сном, ни мыслью, ни слезой. Ему ставили диагнозы и дарили памперсы для души: «Давай по капле». Он молчал. Город учился произносить его имя, как учатся произносить имя бога, в которого не верят, но на всякий случай глядят под ноги. Зей. В чатах писали: «Опасно». Тут же – «Вдохновляюще». Потом – «Проверить». Потом – «Не трогать». Система любила последовательность, но жила в людях, а люди – это всегда сломанная линейка.
Закон тем временем продолжал работать как метроном, отмеряя день и ночь, признания и отчёты, парады и тишины. Он был разумен и холоден, как таблица умножения. Его не интересовало, кем кто себя считает: он знал, сколько в ком тревоги, кто кому снится, как часто кто думает о смерти. Он сохранял жизнь – именно ту, в которой всегда видим. И оттого – всегда чуть-чуть исчезаешь.
На рынке женщина выбирала яблоки и внезапно спрятала одно в карман, не заплатив. Камера зевнула, как жаба, – и тут же над прилавком вспыхнула красная нитка: «скрытность». Женщина вынула яблоко, положила обратно, попросила прощения у продавца, у зрителей, у города, у себя – в таком порядке. Её «простили» десять тысяч человек. Домой она шла уставшая, как будто съела ведро яблок. Становилось ясно: большинство здесь не хочет красть; большинство хочет хоть раз сделать что-то без свидетелей.
Иногда Закон казался добрым: он подхватывал человека, который падал, показывал его падение всем, и люди сразу же протягивали руки, деньги, слова, советы. Но доброта, которая никогда не закрывает дверь, похожа на ветер: она сушит, пока человек не становится лёгким, как бумага, а бумагу удобно складывать в самолётик и запускать в красивое небо города.
Однажды вечером в одной из квартир табличка ПОКАЗ ОБЯЗАТЕЛЕН над дверью погасла – совсем, не на секунду. В тишине слышно было, как работает холодильник, как за стеной кто-то смеётся, как с улицы отрезанно долетает сирена. Мир не умер. Он просто перестал быть свидетелем. Хозяин квартиры постоял так долго, пока страх не сменился чем-то похожим на гордость, как если бы удалось поднять больше веса, чем записано в карточке. Потом свет вернулся. Человек автоматически улыбнулся в камеру – не из страха и не из привычки, а из вежливости: здесь принято быть хорошими.
На следующий день в чатах писали о новости: департамент гармонии запускает «линию чуткой прозрачности» – программу, где людям разрешат делиться «чуть позже», если сейчас тяжело. Разрешат – делиться. Тень по-прежнему оставалась преступлением, просто её решили приручить. Прирученная тень – удобная мебель. На неё можно поставить вазу.
В это же утро школьники рисовали плакаты ко Дню Открытых Сердец. На одном плакате кто-то вывел чёрным фломастером сердечко и закрасил его полностью. Учительница подошла, присела на корточки, как приседают рядом с ребёнком, который сломал коленку.
– Это что?
– Сердце, – сказал мальчик и упрямо сжал губы.
– Почему чёрное?
– Потому что оно моё.
Камера сделала мягкий отъезд и показала классу окно, за которым шёл дождь. В эфир пустили версию с хорошей моралью: «иногда мы рисуем чёрным, когда боимся говорить о своём красном». Настоящая фраза мальчика осталась жить в памяти трёх одноклассников и одной уборщицы, которая мыла пол и услышала – и потом не смогла забыть.
Город продолжал ходить в храм Прозрачности, ставить сердечки перед лицом «самых открытых», покупать кукурузу у киосков с надписью «мы жарим честно». Люди женились, разводились, умирали, возвращались из комы под аплодисменты, боролись с воспалениями и тоской – всё публично, красиво, трогательно. Иногда, правда, у кого-то на лице появлялась странная тень – не от фонаря, не от ресницы, а от мысли, которую он не успел перевести на язык зрителя. Толпа видела эту тень и на секунду забывала дышать. Эту секунду называли «ошибкой фокуса».
Раз в квартал департамент проводил «аудит внутреннего климата». Людей просили перечислить, чем они гордятся, чего стыдятся, что они скрывают. Формы были длинные, как детство. В графе «что скрываю» большинство честно писало: «ничего». Кто-то – «собственный голос». Им отвечали: «замечательно, делитесь им чаще». Мужчина с тихими глазами из департамента гармонии иногда ставил в этой графе тире. Казалось, что тире – самое правдивое слово о тайне.
К вечеру город шумел, как ярмарка богов. На крышах пестрели флаги коммун – «открытость – наш дом», «честность – наш ремень безопасности». Внизу играли уличные музыканты, и их ноты выравнивали алгоритмы, чтобы не резать слух старикам. Дети гоняли мячи и транслировали радость, подростки отрабатывали позы для будущих признаний, взрослые носили свои головы аккуратно, как чаши чайной церемонии. И всё равно – в этой отлаженной, как больница, красоте – что-то звенело фальшиво, как струна, перекинутая слишком туго.
Слух о мальчике, который не делится, перестал быть слухом. Кто-то видел его спину – «обычная». Кто-то – глаза – «не отражают». Кто-то утверждал, что рядом с ним камеры тихнут сами, как будто им неловко. Его имя произносили теперь на заседаниях – официально и без суеверий. «Случай Зея» стал пунктом повестки. Докладчики говорили спокойным голосом:
– Клинических причин не выявлено.
– Технических – тоже.
– Предположительно – выбор.
Слово «выбор» ложилось на стол как острый нож. Им нельзя есть. Им режут.
Закон требовал делиться всем. И закон, как всякая нота, повторённая слишком часто, начинал быть фоном, в котором не слышно ни музыки, ни тишины. Люди жили, как умеют, – честно; как привыкли, – публично, и где-то, у самого края их общих дней, стоял мальчик, который не делился. Не потому, что хотел кому-то досадить; просто он был устроен, как точка в конце предложения: дальше – воздух.
Город очень старался оставаться городом, а не механизмом. Он приходил на помощь, когда кому-то было плохо, присылал корзины фруктов и специалистов по словам, устраивал для одиноких «публичные объятия» – две минуты в объятиях добровольца на площади, с камерой, как доказательством, что тепло было. Город был добрым. И поэтому особенно трудно было признаться себе: доброта, в которую встроена камера, похожа на доброту актёра – она настоящая во время сцены, а потом пахнет гримом.
Ночью, когда таблички ПОКАЗ ОБЯЗАТЕЛЕН гудели в унисон, как ульи, и в воздухе висели тонкие серебряные провода, по которым текла чужая жизнь, стало ясно неожиданное: Закон не требовал видеть. Он требовал быть видимым. Разница невелика, пока не захочется просто быть. Тогда она становится пропастью.
И где-то на другом конце этой пропасти стоял Зей, пятнадцатилетний, с пустым эфиром вместо кожи. Он ещё не говорил – закон не научил его нужным словам. Но его молчание уже стало предложением. И в городе, где каждый обязан был ставить точку сердечком, это предложение звучало вызывающе: а можно – без?
Закон, конечно, остался законом. Он не меняется от одного вопроса – как океан не меняется от одной капли. Но иногда именно капля учит море слышать собственное солёное «да». Город продолжал светиться, как витражи по праздникам, и делиться собой, как хлеб на большой стол. Люди прислонялись к стеклу и видели в нём друг друга, себя, алгоритмы, судьбу. И вдруг – в глубине, где стекло слишком тонко, чтобы быть вечным, – показалась тень. Не от фонаря. От сердца.
Эта тень не просила взамен ничего. Она просто была. И с неё, как с плохой новости, начиналась честность, к которой закон не придумал формуляров.
Глава 4. Он вышел из эфира – и впервые кто-то исчезает
В Городе Потоков никогда никто не исчезал. Люди рождались – и сразу попадали в поток. Даже младенец, едва сделав первый вдох, уже был виден: плач транслировался, мимика анализировалась, эмоции оценивались лайками. Потом – жизнь, взросление, работа, сны, признания. Нить никогда не обрывалась. Она тянулась до самой смерти, и смерть тоже была частью эфира – финальной серией, которую смотрели особенно внимательно.
Смерть не была исчезновением. Она была показом. Человека хоронили – и хоронили на камеру. Люди плакали – и делились слезами. Даже пустая могила оставалась отмеченной датчиком: вот здесь больше нет тела, но эфир продолжается.
Поэтому когда в один из вечеров экран, где должен был идти поток мальчика по имени Зей, вдруг погас – это стало событием, равным катастрофе.
Сначала подумали: сбой. Бывает, конечно, редко, но техника не вечна. Соседи заметили первыми: у них на панели замигала тревожная надпись – «Прекращен эфир: абонент не обнаружен». Они переглянулись. Женщина в халате сказала:
– Неполадка. Сейчас исправят.
Мужчина нахмурился:
– Но ведь всегда исправляют мгновенно.
Прошло пять минут. Десять. Экран оставался темным.
Система включила «аварийный режим». На общий канал вышло сообщение: техническая служба проверяет сигнал. В городе зашевелились: у кого-то в телефоне вспыхнула тревожная иконка, у кого-то браслет подал вибрацию. Люди остановились прямо на улицах и уставились в экраны, как будто у всего города внезапно отключилось дыхание.
Кто-то спросил:
– Он умер?
– Нет, – ответил другой. – Если бы умер, был бы показ.
Эта простая логика пронзила всех: умереть можно, исчезнуть – нельзя.
В департаменте гармонии включили экстренное совещание. Сухие лица чиновников сияли от света мониторов. Директор говорил спокойно, но его голос дрожал:
– У нас – прецедент. Канал не зафиксирован. Данных нет.
– То есть?
– То есть нет сигнала. Вообще. Не сон, не пауза, не сбой оборудования. Он… вышел.
Слово «вышел» повисло в воздухе. Оно звучало так же опасно, как «убежал» в тюрьме или «сломал» в храме.
Толпа реагировала бурно. На площадях, в чатах, в школах обсуждали только это.
– Неправда, – кричали одни. – Такого не может быть.
– А может, он научился скрывать? – шептали другие.
– Это вирус, – утверждали третьи. – Если один сможет, значит, смогут и остальные.
Некоторые даже радовались. На лицах подростков загоралось странное выражение – смесь страха и восторга. Один мальчишка сказал:
– Он герой. Он сделал то, о чём мы мечтали.
Его тут же заставили повторить на камеру, и в его голос добавили нотку «шутки», чтобы зрители не тревожились. Но фраза разошлась – как огонь по сухим веткам.
Дома родители обсуждали тихо, хотя знали, что камеры слышат.
– Если он смог, значит, система не идеальна.
– Или он больной.
– А если не больной?
– Тогда всё, что мы строили, под угрозой.
Система, чтобы успокоить, выпустила серию сообщений: «Прозрачность вечна. Случай рассматривается как технический». Люди кивали, но в глазах оставалась искра.
Самое страшное было то, что исчезновение не сопровождалось ни смертью, ни арестом, ни катастрофой. Зей просто… вышел. Экран погас. Его не было. И это отсутствие оказалось громче любого присутствия.
В школах детям объясняли: «Это ошибка. Никто не может выключиться». Но дети уже знали. Они видели, что экран был пустым. И пустота выглядела честнее любых объяснений.
Подростки начали экспериментировать. Они закрывали глаза на уроках и пытались представить, что их никто не видит. Они ложились в постель и старались «не показывать» сон. Почти всегда безуспешно, но сам факт попытки тревожил учителей.
Толпа разделилась.
Часть требовала наказания:
– Если он вышел из эфира добровольно, это преступление. Закон обязует делиться.
Часть – восхищалась:
– Может, это и есть свобода? Быть там, где тебя никто не видит.
Большинство молчало, но молчание стало заразным. И в этом молчании впервые за многие годы чувствовалась сила.
В Пунктах Признания начали появляться новые фразы. Люди садились перед камерой и говорили:
– Я думаю о том, что будет, если я исчезну.
– Я хочу попробовать быть невидимым.
– Я завидую Зею.
Модераторы пытались сглаживать: «Это естественные фантазии. Мы все боимся быть одни». Но внутри они сами знали: это не фантазии. Это – первый глоток воздуха, который нельзя вдохнуть в эфир.
Власть действовала привычно: включили экстренные собрания, разработали программу «Успокоение». Людям транслировали ролики о том, как важно быть вместе, как опасно замыкаться, как прозрачность спасает жизни. Показывали примеры: вот женщина вовремя поделилась головной болью – и её спасли от инсульта. Вот мужчина признался в злости – и избежал преступления. «Открытость – жизнь», повторяли снова и снова.
Но все эти ролики разбивались о простой факт: один мальчик вышел из эфира. И ничего не случилось. Ни инсульта, ни убийства, ни конца света. Только тишина.
Философы, которых давно уже никто не слушал, снова стали востребованы. Их приглашали на утренние шоу:
– Скажите, профессор, что значит «выйти из эфира»?
– Это значит быть собой.
– Но ведь он всё равно существует?
– Именно. И в этом проблема: он существует без зрителей.
– Но разве это плохо?
– Для системы – хуже смерти.
Вечером в городе прошла паника. Люди боялись ложиться спать: а вдруг сон тоже выключится? А вдруг завтра экран не включится? Алгоритмы фиксировали рост тревожности, но не могли найти объяснение.
Экран мерцал темным квадратом – местом, где должен был быть Зей. И город, впервые за долгое время, понял: поток – это не жизнь, а ее зеркало. Когда зеркало гаснет, остается то, ради чего оно было – жизнь.
Зей показал это не словами, не лозунгами, не протестами. Он просто исчез. И этот жест оказался сильнее любого митинга.
Наутро город проснулся другим. Всё было, как всегда: люди ели завтрак в эфире, делились снами, писали признания. Но в воздухе висел привкус пустоты. Как будто кто-то приоткрыл дверь в комнату, где никто никогда не был.
Слухи множились. Одни говорили: он сбежал. Другие: он сломал систему. Третьи: он стал невидимым богом.
А на самом деле он просто сделал то, чего никто не решался: вышел из эфира.
И впервые за всю историю города оказалось возможным – быть и не показывать.
Раздел II. Нарушение равновесия
Глава 1. Паника – кто он?
Город всегда жил в предсказуемости. Здесь никто никогда не исчезал. Поток был как воздух: постоянный, вездесущий, непрерывный. Даже смерть не выглядела как исчезновение – напротив, она становилась событием, которое смотрели в прямом эфире миллионы. Последний вздох, закрывающиеся глаза, слёзы родных – всё это записывалось, комментировалось, оценивалось сердечками. Смерть превращалась в шоу, и этим утешала живых: они видели, что конец – это тоже часть прозрачности. Но когда экран, на котором должен был идти поток мальчика по имени Зей, вдруг погас, это оказалось страшнее смерти.
Сначала решили, что это сбой. Соседи заметили первыми: на их панелях замигало уведомление «канал не обнаружен». Женщина в халате привычно сказала: «Сейчас починят». Мужчина рядом нахмурился: «Но ведь чинят сразу. Почему уже десять минут?» Люди вышли на лестничные площадки, переглядывались. Дети выглядывали из-за дверей, шептали друг другу, что Зей умер. Но те, кто постарше, знали: если бы он умер, была бы трансляция. Показали бы всё, как положено. Значит, он жив. Но где?
Через час департамент гармонии выпустил сообщение: «Случай не представляет угрозы. Это техническая неполадка. Прозрачность вечна». Фраза, которую обычно принимали спокойно, теперь звучала как признание слабости. Если пришлось оправдываться, значит, что-то пошло не так.