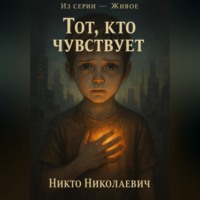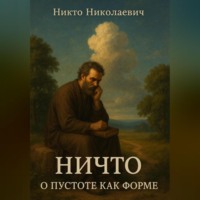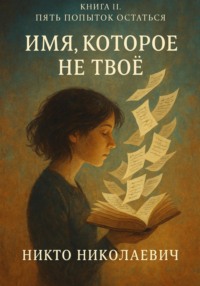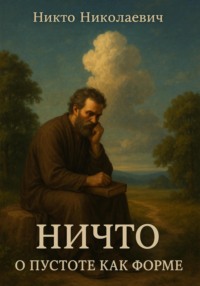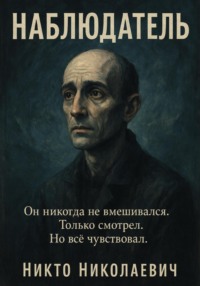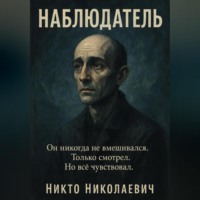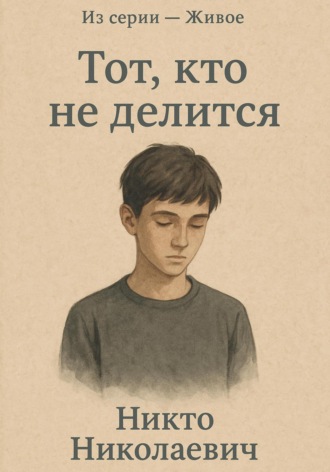
Полная версия
Тот, кто не делится

Никто Николаевич
Тот, кто не делится
Пролог. Эфирное детство
В Городе Потоков дети не кричали – они выходили в эфир. Любой роддом был студией с мягким светом и стерильными объятиями камер. В момент, когда новый человек вдыхал впервые, на его крошечном запястье загоралась тонкая лента-браслет: сердцебиение, гормоны, первые звуки – всё превращалось в ленту из пульса, графиков и надписей «добро пожаловать». Родственники ставили сердечки, акушерка нажимала «поделиться», а алгоритмы предлагали имя, будущее и список друзей по совпадению биохимий.
Так было правильно. Так было удобно. Так было спокойно, потому что ничего тайного в мире не оставалось – а когда тайного нет, нет и страха. Пугала лишь пауза, эта древняя звериная тьма между фразами. В Городе Потоков паузу считали поломкой или преступлением. На всякий случай – обоими.
В день, когда родился Зей, свет в палате был такой же мягкий, как всегда. Ко всем приборам тянулись белые шнуры, похожие на струны, и казалось, что сейчас родится не ребёнок, а музыка. Мать дышала по ритму метрики на экране, отец держал в руке телефон, чтобы не пропустить первый комментарий к первому вздоху. Камеры зевнули объективами. Мониторы моргнули зеленью. И – ничего.
Никакого сигнала. Ни писка, ни графика. Браслет на запястье младенца погас, как будто утомился еще до начала. Ребёнок лежал, теплый и реальный, с живыми руками, с маленьким ртом, в котором дрогнуло то ли «а», то ли «жизнь». Но система не слышала его. Для города он не начался.
Сначала подумали – аппаратура. Вызвали техника с серебряным чемоданом, он ловко заменил датчик, поправил ленту, сменил частоту, поставил резервную камеру на случай «неучтенной широты души». Ничего. Пустой канал. На стенном экране, вместо традиционного графика счастья, завис черный, честный прямоугольник. В углу скромно мигал таймер: «в эфире – 00:00».
Мать впервые оторвалась от заданного дыхания и посмотрела на сына – не в экран, а прямо, глазами, которыми теперь редко пользуются. Ребёнок ответил ей серьезным, как у стариков, взглядом. Он спал. Он был. Система не была.
В тот день у роддома начали собираться любопытные – подписчики отделения. Лента репортажей шла, как всегда: «Нам обещан уникальный случай!», «Первый младенец-интроверт!», «Сбой века!» К вечеру пришли два чиновника из Департамента Публичного Благополучия; они принесли документы: «Рекомендации по немедленной настройке», «Временный регламент прозрачности», «Согласие на вмешательство ради всеобщего спокойствия». Вежливо, аккуратно, как будто речь шла о ремонте проводки в коммунальном раю.
Техник снова стелил датчики. Врачи на всякий случай измеряли всё, что можно измерить: температуру, рефлексы, уровень поэзии в крови. Ребёнок ежился и морщил лоб. Не то чтобы ему не нравилось – просто он был занят: рос. А рост – дело камерно-частное.
К третьему дню на браслете Зея загорелся единственный значок – пустой кружок эфира, перечеркнутый тонкой линией. «Канал недоступен». Мать прижала сына крепче и, неожиданно даже для себя, не нажала ни одной кнопки. Отец, привыкший снимать всё, что движется и даже то, что стоит, опустил телефон. Камеры, не получив разрешения, вежливо отвели объективы. Когда тишина впервые признается законной, она звучит как амнистия.
Выписка была тихой. На исходе недели роддом вежливо опубликовал «пояснение»: здоров, показатели в норме, коммуникация «в офлайн-режиме», просьба отнестись с пониманием. Комментарии были мягко-возмущенными: «А как же общее?» «А как отслеживать?» «А вдруг что?» Люди давно не задавали вопросов, на которые нельзя ответить датчиком. Эти три – пахли прошлым, в котором приходилось жить вслепую.
Зея принесли домой – не в интернет, не в приложение, а в комнату с окнами. Днём его укладывали спать в полосатую тень от жалюзи; ночью он шевелил руками так, словно плыл под водой. Иногда он плакал, но не для того, чтобы кто-то поставил лайк, а чтобы к нему подошли. Мать подходила. Мир – тоже, но не сразу.
В Городе Потоков детство было давно стандартизировано: первая улыбка – событие, через десять минут после публикации алгоритм присылает подборку «лучших похожих улыбок в вашем районе». Первый шаг – повод для общегородского челленджа. Первое «мама» – синхронизация с голосовыми ассистентами. У детей оставался только выбор порядка – но не того, что переживать, а того, что показывать раньше.
С Зеем порядок был другой. Сначала – пережить. Потом – возможно. А иногда – никогда. Семья жила, как живут обычно, если никто не наблюдает: криво, как рукопись, которую не отправят редактору. Мать снова училась слышать интонацию, а не считывать спектрограммой; отец, забывшись, начал разговаривать с сыном не «для истории», а просто так – вполголоса, как люди разговаривают с огнём.
На детской площадке на Зея смотрели любопытно, как на устаревший предмет с неизвестной функцией. Другие дети подходили, трогали его браслет (он молчал), засовывали ему в ладонь свои экраны (они говорили). Одна девочка, с жидким розовым бантом, спросила очень серьёзно: «А где ты есть?» Он не ответил – ещё не умел. Но, кажется, понял вопрос лучше, чем взрослые.
Взрослые, впрочем, тоже пытались понять. На уровне правил всё было довольно просто. В городе действовал Кодекс Открытости: «каждый гражданин имеет право на показ и обязанность не скрывать состояния, влияющие на благополучие общины». Судорожно искали строчку, которая покрыла бы ребёнка без канала. Не нашли. Кодекс писал человек, у которого было всё, кроме воображения.
В отсутствие закона начинают работать обычаи. Сначала – разговоры про «асоциальность». Потом – советы «не задерживать ребёнка, внешняя обратная связь важна для развития врожденного эмпатического излучения». Вскоре – мягкие угрозы: «В случае отсутствия стабильного сигнала мы будем вынуждены предложить сопровождение».
Сопровождение – красивое слово для слежки. Город не любил грубых слов. Он вообще ничего не любил, кроме себя. Если честно, кто-то в нём очень боялся. Боялись того, что у ребёнка есть место, куда они не войдут – даже с ключами, даже вежливо. Опасней не секреты. Опасней – пространство для них.
Паузы, что Зей приносил с собой, поначалу казались просто техническими интервалами. Но однажды мать заметила: когда он молчит – не просто «нет данных». В комнате теплеет. Время перестает тикать вперед и садится рядом. В этом странном беззвучии вещи становились собой – кружка, окно, человек. И становилось видно, скольких частей в нас не отзеркаливает ни одна камера.
Иногда, правда, тишина пугала и её. Она ловила себя на том, что хочет нажать кнопку «поделиться», чтобы убедиться: он есть, они есть, это не сон. Но каждый раз палец не слушался. В городе учат мускулам делиться быстрее мысли. Ей пришлось заново учиться держать руку на месте.
Отцу было сложнее. Он работал в отделе «Прозрачного контента», отвечал за вовлеченность зрителей. Молчаливый сын ставил под сомнение не только правила города – его личные правила тоже. Ночами он сидел на кухне, слушал, как дом дышит, и пытался сформулировать то, чего не мог выложить в отчет: «Если мы не показываем, значит, нам нечего?»; «Если никто не видит, это не происходит?»; «Если я не делюсь, это у меня?» С вопросами жить труднее, чем с лайками. Но, кажется, интереснее.
Прошли месяцы. Браслет на запястье Зея так и остался тонким, как запятая, – знаком паузы. Он иногда моргал: не сигналом, а признанием – «да, здесь кто-то есть». На семейных фотографиях после этого никто ничего не подписывал. Они начали хранить снимки в коробке, а не в облаке. В коробке вещи старятся, но не умирают от чужого взгляда.
Город привыкал медленно. Сначала – к существованию чёрного прямоугольника в статистике. Потом – к мысли, что чёрный прямоугольник – может быть окном. Иногда у окон нельзя ничего увидеть, кроме себя. А это опаснее всего. Люди смотрелись и отворачивались.
Однажды, возвращаясь из магазина, мать заметила, что камеры на перекрёстке провожают её не таким пристальным взглядом, как прежде. Система научилась не ждать сигнала там, где сигнала не бывает. Город мудрел – против воли. Город вообще сделал многое против воли, когда появился Зей.
Ночами мальчик спал, положив ладонь матери на щеку. Иногда он вздрагивал, будто ловил в темноте чью-то мысль. В эти минуты весь дом, уже занятый тишиной, казался огромным ухом. Мир слушал своего нового жителя. Не зрителя – жителя.
Когда Зей научился стоять, он, как и все дети, потянулся к окну. Снаружи шевелились ветки, и каждая ветка была не контентом, а веткой. Он постоял так, без комментариев, пока не женился на этом движении – и только потом сделал шаг. Первый. Незаписанный. Самый настоящий.
В Городе Потоков говорят: «Ты есть то, что показываешь». С тех пор, как родился Зей, появилась другая фраза – её шептали, чтобы не нарушать статистику: «Ты есть то, что остаётся, когда не показываешь». Город не любил эту фразу. Но не смог её удалить. Она жила там же, где ребёнок – в месте, куда доступ закрыт даже с правами администратора.
Так заканчивается эфирное детство – не потому, что эфира нет, а потому, что у него появляется граница. Её зовут тишина. Она не против. Она «за». За то, чтобы у каждого было где дышать. За то, чтобы не всё существовало только на свету. За то, чтобы кто-то мог родиться – не для зрителя, а для себя.
Зей родился именно так: как пауза в городе без пауз. И город, впервые за долгие годы, прислушался к тому, что слышат лишь внутри. Пауза сказала: «Потом». И город, как ни странно, понял.
Раздел I. Все на виду
Глава 1. Стрим 24/7
В Городе Потоков жизнь текла без пауз. Здесь не знали, что такое «остановиться». Всё происходило на виду, круглосуточно, бесконечно. Даже сон считался не отдыхом, а сменой программы: «Ночной эфир сновидений».
Утро начиналось одинаково. Камеры оживали раньше хозяев, аккуратно фиксируя, как те ворочаются, как подушка смята, как изо рта вырывается первый вздох. На экране загоралась надпись: «В эфире. Доброе утро!» Люди улыбались, даже не открыв глаза, потому что знали – зрители уже здесь.
На кухне семейная жизнь превратилась в ток-шоу. Дети соревновались, чья тарелка каши получит больше лайков. Отец громко читал новости из общего потока, хотя все зрители давно их знали. Мать иногда пыталась шутить, и если зрители ставили мало реакций, шутка считалась провальной. Даже между собой члены семьи общались так, словно комментировали собственное существование.
В школе всё было ещё жёстче. Дети учились быть не умными, а видимыми. Урок истории превратился в битву за внимание: кто быстрее выдаст «эмоциональный факт», кто сильнее разжалобит зрителей, кто искреннее всплакнет при упоминании древних войн. Знания были не целью, а поводом для шоу. Учителя оценивали не ум, а рейтинг трансляций.
Влюбленность подростков становилась сериалом. Две руки соприкоснулись – и сразу десятки комментариев: «Они подходят друг другу!» «Ставлю лайк за химию!» Признание в чувствах не могло быть спонтанным – его планировали, согласовывали с алгоритмами, чтобы не потерять внимание публики. Никто не говорил «люблю» тише шепота. Все говорили громко, на запись.
Работа взрослых тоже проходила «на витрине». Чиновник не мог написать речь наедине – каждое его слово транслировалось в общий поток. Подписчики тут же редактировали: «Уберите лишний пафос», «Добавьте юмора», «Нужна эмпатия». В итоге законопроекты выглядели как коллективный пост в соцсети. Но так было удобнее: народ доволен, власть прозрачна. Правда, не осталось никого, кто бы принимал решения сам.
Даже преступления здесь были открытыми. В Городе Потоков невозможно было украсть кошелек тайно – твоя рука, протянутая к чужому карману, уже транслировалась тысячам глаз. И всё же преступления существовали. Но выглядели они иначе: не украденное золото, а украденное право на паузу. Настоящим нарушением считалось не делиться. Спрятал мысль, слезу, желание – значит, обманул общество. И наказывали не тюрьмой, а принудительным эфиром: человека подключали к усиленному режиму, транслировали каждую клетку, каждый вздох. Это называлось «камерой милосердия».
Город имел и свою религию. Алтари стояли на площадях, украшенные гигантскими экранами. На них показывали «святых» – людей, которые делились абсолютно всем. Их детство, зрелость, болезни, интим – всё было открыто. Им молились: «Дай нам силу быть прозрачными, как ты». Лайк стал молитвой. Поделиться – исповедью. Подписка – причастием. Сомнение считалось грехом.
И всё же даже здесь иногда прорывалась странная тень. Слишком идеальные трансляции настораживали. Когда человек показывал жизнь без пауз и ошибок, начинали шептаться: «А может, он использует фильтр? Может, скрывает что-то?» Идеальная прозрачность казалась более подозрительной, чем маленькая тайна.
Иногда это прорывалось в бытовом. Вот мать, готовящая обед. Она выключила звук, чтобы тихо заплакать – всего на пару секунд. Но система тут же среагировала: «Обнаружен скрытый сегмент. Рекомендуется включить камеру». Она включила. Её слёзы стали шоу. Зрители писали: «Какая искренняя женщина!» «Давайте поддержим её!» – и лайки сыпались, как монеты. Но внутри она знала: слёзы были не для них. И от этого становилось ещё хуже.
Другой пример – мужчина на исповеди. Исповедей здесь не было в привычном смысле. Человек садился перед камерой и признавался в своих страхах, в стыде, в слабости. За искренность ему дарили сердечки. Чем глубже стыд, тем больше реакций. Люди рассказывали всё – потому что за молчание наказывали. Так стыд переставал лечить. Он становился контентом.
Город был прозрачной тюрьмой. Но тюрьмой, в которой стены сделаны из стекла и украшены цветами. Люди давно не умели жить без зрителей. Один подросток расплакался на уроке, и его слеза за несколько часов стала мемом. Ему писали: «Ты трогательный, как котёнок». «Сними ещё!» Но он не хотел. И именно это нежелание вдруг сделало его опасным.
Город жил в бесконечном эфире. Но чем дольше он длился, тем яснее становилось: нескончаемое – значит пустое. И это ощущение пустоты, ещё не проговоренное, еще не осознанное, начинало грызть изнутри.
Ведь однажды кто-то всё-таки выключит камеру.
Глава 2. Коллективный сон
В Городе Потоков ночь не наступала – она меняла жанр. Если днём всё напоминало бесконечный реалити-шоу, то ночью включался новый формат: «сериал сновидений». Люди засыпали не для отдыха, а для того, чтобы подарить зрителям новый контент.
Сон здесь не принадлежал тому, кто его видел. Он принадлежал всем. Одеяла превращались в экраны, подушки – в передатчики, и миллионы зрителей наблюдали, как чужие мысли вырастают в миры. Утром никто не спрашивал: «Что тебе приснилось?» – спрашивать не имело смысла. Все уже видели.
Соседи встречались в лифте и обсуждали:
– Славный у тебя сон вчера! Но концовка, честно, предсказуемая.
– А мне понравилось, как ты плавала по облакам. Очень поэтично!
Люди благодарили за комментарии, как будто речь шла о стихах или картине. А между тем это был всего лишь сон – последний уголок, который когда-то принадлежал человеку.
В детстве всё выглядело мило. Ребёнку снился красный шар, и весь район умилялся: «Какое чистое воображение!» Алгоритмы тут же сделали прогноз: «Вероятная склонность к творчеству». Девочке часто снились рыбы – и ее направляли в биолабораторию. Мальчику снились лестницы – в архитекторы. Система заранее знала, кем они будут. Никого не интересовало, чего хотели сами дети.
Подросткам доставалось тяжелее. Их сны были хаотичными, полными страха и желания. Девочке приснилось, что она целует учителя, – и утром весь класс смеялся, дразнил её. Мальчику приснилось, что он стоит голый на площади, – и его сон стал мемом, с песнями и ремиксами. Сны подростков становились самым популярным развлечением: неловкие, искренние, смешные – именно потому, что они не могли себя защитить. Днем можно надеть маску, ночью – невозможно.
Существовали утренние передачи – «Разборы сновидений». Там аналитики обсуждали чужие ночи, как критики фильмы:
– Что значит сон госпожи Энн, где она падает с лестницы? Может, это признак нелояльности?
– Или просто страх старости.
– Но ведь старость – это тоже нелояльность к системе, не так ли?
Люди смотрели, записывали, делали выводы. Чужие сны всегда вкуснее своих.
Самые яркие сновидцы становились звёздами. Их показывали миллионам, их сны продавались дороже фильмов. Певице снился концерт на вершине горы – и это становилось хитом недели. Артист видел город из стекла, который рушится – и режиссеры использовали его образы для фильмов. Сны называли «коллективным искусством».
Были даже парады сновидцев. Лучших показывали на площади, на гигантских экранах. Толпа кричала: «Браво!» Люди плакали от восторга, глядя, как кто-то летит над морем или встречается с умершей матерью. Никто не замечал, что это всего лишь случайные обрывки мозга, превращённые в товар.
Но большинство оставалось незамеченным. Простым людям снились серые дороги, забытые лица, страхи детства. Зрители переключались. Утром просыпаться с осознанием, что твой сон никому не нужен, было хуже, чем одиночество. Одиночество здесь измерялось отсутствием лайков.
Смерть во сне считалась аномалией. Если человеку снилось, что он умирает, система включала тревогу. К нему приезжали психологи и требовали объяснений:
– Почему вы увидели смерть? Что скрывает ваше подсознание?
Сон о смерти был страшнее болезни. Люди боялись не умереть, а присниться мёртвыми.
Иногда кто-то пытался сопротивляться. Таких называли «черносонниками». Они тренировали себя засыпать без сновидений. На экране – пустота. Чёрный квадрат вместо картинки. Система фиксировала сбой, назначала лечение. Но слухи говорили: именно эти люди свободны.
Однажды подростку по имени Арин приснилось, что он тонет в школьном бассейне, а его друзья смеются. Сон стал вирусным. Его нарезали, добавили музыку, делали мемы. Вечером весь город смеялся над его страхом. Арин не выходил из дома неделю. Но даже дома от него не было спасения: камера транслировала его отчаяние. Даже отчаяние становилось шоу.
Влюблённые страдали особенно. Они надеялись хотя бы во сне побыть вдвоём. Но система соединяла их образы в общий поток, и миллионы смотрели: «Он любит её сильнее!» «Она отвлеклась на другого!» Даже там, где должно быть двое, всегда оставалась толпа.
Религия города тоже жила во сне. Раз в месяц устраивался обряд «Общее Сновидение». Все жители засыпали в одно и то же время. Система соединяла их сны в единый поток, создавая огромное коллективное видение. Это называли «сном города». На площади собирались толпы и смотрели, как в эфире рождается общий сон. Иногда он был красивым – море, свет, полет. Иногда пугающим – тьма, хаос, война. Люди объясняли: это не мы, это наш город так чувствует. Но на самом деле – это они сами, только слишком близко.
Иногда всё же появлялся чёрный экран. Люди вздрагивали, отворачивались. Власти называли это сбоем. Но каждый знал: это не сбой. Это тайна. Это свобода.
Именно в эти моменты впервые заметили Зея. Его сны были пустыми. Камера фиксировала дыхание, движения глаз, но экран оставался черным. Сначала решили: ошибка системы. Потом – болезнь. Но чем дольше он спал, тем яснее становилось: он не показывает не потому, что не может. А потому, что не хочет.
Это пугало. И притягивало. Потому что впервые в городе появился человек, у которого было что-то своё.
Глава 3. Право на показ
В Городе Потоков закон был прост, как гвоздь, – прямой, холодный и всегда под рукой: делись. Если не делишься, значит, скрываешь; если скрываешь, значит, вредишь; если вредишь, значит, виноват. Всё остальное считалось риторикой, которой люди развлекают страх. На углах домов висели световые коробки – днём они казались белыми, ночью светились нежно-голубым, как будто город хотел извиниться за свою навязчивость: «Мы только посмотрим, и – обещаем – не осудим». На коробках бежали формулы: Прозрачность = доверие. Доверие = безопасность. Безопасность = жизнь.
Никто уже не помнил, с чего началось. Старики, которые ещё застали шторы и ключи, рассказывали сказки про то, как двери закрывались с мягким щелчком, а тишина внутри дома принадлежала живущим в нём. Их слушали, улыбаясь, как слушают фантастов на детском утреннике. Сказано же: тайны убивают – у каждого есть история, где за закрытой дверью что-то треснуло. Так город вышел на площадь с плакатами «Хватит тайн», а власти услышали прежде всех: если люди боятся, надо дать им свет. Свет – это камеры, датчики, браслеты, отчёты, прямые трансляции всего, что шевелится и иногда думает.
Первое время было даже весело. Всё добровольно: подключайся, делись, получай за это значки и бонусы – скидки в магазинах, страховку без переплат, рекомендации от доброжелательных алгоритмов. Свет оказался удобной вещью – как навигатор в городе, который, впрочем, можно было бы пройти и самому, если бы не разучился ходить. Но добровольность – всего лишь вежливость перед неизбежным. Через год из состязания «кто прозрачнее» вырос Кодекс Открытости. Его читали в школах, вывешивали в ЗАГСах, подкладывали в чемоданы новобрачным, приносили на дом к новорождённому.
Статья первая: каждый обязан делиться своим состоянием, чтобы община знала и помогала.
Статья вторая: каждый обязан делиться мыслями, имеющими общественное значение.
Статья третья: каждый обязан делиться снами – как источником коллективной мудрости.
Статья четвёртая: любой отказ от дележа есть сигнал опасности и рассматривается в порядке ускоренном и бережном.
Слова были мягкими. Жёсткими были процедуры. Утром браслеты, как маленькие собаки, тянулись к коже: «Как спалось? Что видели? Как чувствуете себя?» Отчёт сразу же уходил в общий поток, где его внимательно и безлично читали тысячи глаз – многие из этих глаз никогда не думали о ком-то, пока не подумали за него. «Лёгкая тревога у Ирины с четвёртого. Кто-нибудь зайдёт?» – «У Петра понижен сахар; соседи, не угостите ли его яблоком?» Забота была коллективной привычкой, похожей на рефлекс: слышишь чужую редкость дыхания – ставишь сердечко. От сердечка становилось легче – сначала тому, кто ставил, а потом и тому, кому ставили.
Школы приспосабливались быстрее всех – детям не надо объяснять смысл правил, им достаточно объяснить форму. Уроки литературы превращались в прямой эфир «о чём думаешь сейчас», математика – в соревнование вовлечённости: кто эмоциональнее расскажет про квадратный корень. «Искренность» означала «говорить немедленно». «Честность» означала «говорить на камеру». Учительница, тонкая, как карандаш, говорила ласково:
– Поделись мыслью, которой не хотел бы делиться. Это освобождает.
Сначала выходил храбрый – всегда найдётся тот, кого хватают за плечо собственные слова.
– Я ненавижу математику, – говорил он громко, а потом тихо: – и вас тоже.
Класс выдыхал, смеялись, хлопали, писали комментарии, учительница кивала:
– Видите? Ничего страшного. Мы с тобой.
Через неделю дети научились ненавидеть на камеру так же дисциплинированно, как раньше учили стихотворения.
В каждом доме висела маленькая табличка: ПОКАЗ ОБЯЗАТЕЛЕН. Она не требовала, она дышала – вместе с жильцами. Вечером в кухне горел свет, и табличка светилась ровнее: всё хорошо, всё видно. Если же в квартире вдруг становилось темно, табличка тревожно мигала, а из соседних окон высовывались головы – как птицы с одинаковыми клювами. Соседи стучали:
– Включай. Нам тревожно. Если тебе плохо – мы поддержим.
Всё звучало правильно. В этом и было коварство. Правильность – идеальный камуфляж насилия.
Город изобрёл новую форму суда – соседский. Он был быстрее официального и гораздо болезненнее. Если кто-то отключал камеру надолго, соседи собирались в чат и начинали обсуждение: почему он выключился, что скрывает, может, болен, а вдруг злится, а если злится – на кого. Составляли коллективную гипотезу и коллективную же санкцию: стоять под дверью и дружно молчать, пока тот не включит свет. Молчание толпы – это шум, у которого забыли ручку громкости.
Официальные суды выглядели театром, где актёры давно перестали стесняться. Подсудимого выводили на сцену – аккуратную, как операционная, – подключали к усиленному режиму, и мысли шли в эфир, спотыкаясь о собственные пятки. «Я хотел ударить соседа за то, что он по ночам громко смеётся». «Я украл деньги у брата». «Я…» Судьи смотрели спокойно: действие уже совершено – теперь нужно оценить соотношение действия и дележа. Если ударил и сразу рассказал – эмоционален, но честен, получай мягкое курирование. Если ударил и молчал – условный срок за насилие и реальный за скрытность. Зло здесь измерялось не кровью и костями, а тем, сколько секунд тень задержалась на пороге.