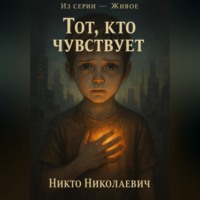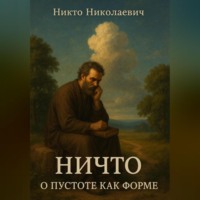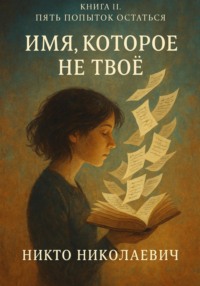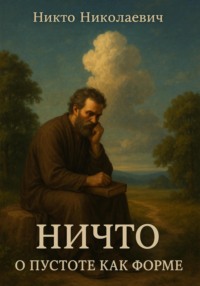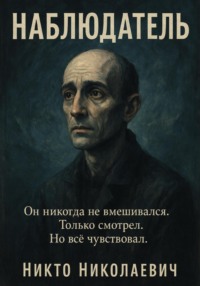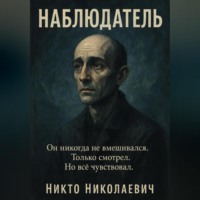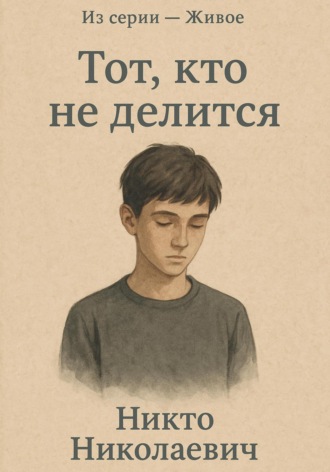
Полная версия
Тот, кто не делится
На центральной площади вечером собралась толпа. На гигантских экранах, где обычно крутили сны, признания и исповеди, теперь показывали пустой прямоугольник – его эфир. Тысячи глаз смотрели в пустоту, как когда-то люди смотрели на солнечное затмение. Одни кричали: «Он умер!» Другие отвечали: «Нет, смерть была бы показана!» Третьи спрашивали: «А может, он сбежал?» Версии множились, как вирусы.
В школах учителя начинали уроки словами: «Сегодня обсудим случай Зея». Дети шептались, что он стал невидимым или ушёл в подполье. Учителя пытались убеждать: «Это ошибка, такого не бывает». Но чем больше повторяли, тем яснее становилось, что случилось невозможное.
В чатах появлялись десятки теорий. «Он заразен, его пустота передастся другим». «Он прорвал систему, скоро мы все сможем». «Он пророк». Слово «пророк» звучало особенно опасно – его тут же удаляли, но оно всплывало снова и снова.
Старики вдруг ожили. Они вспоминали, что когда-то были двери и замки, были шторы, можно было оставаться одному. «Может, он просто вернул себе то, что мы имели», – говорили они. Молодёжь слушала их с трепетом, как сказки о давно потерянной земле. То, что вчера считалось ересью, сегодня звучало как будущее.
Власти устроили брифинг. Чиновники говорили, что подросток не осознает своих действий, что это временно. Голос директора дрожал. Зрители это слышали и писали в комментариях: «Он боится. Даже он».
На лавках у домов обсуждали мать Зея. Одни говорили: «Виновата она, не воспитала». Другие: «Нет, это болезнь». Третьи шептали: «А если это дар?» Эти слова тут же вырезали из эфира, но они уже были произнесены, и шепот остался в воздухе.
Через два дня прошёл «соседский суд». Люди собрались у подъезда. Камеры транслировали каждое слово. Мать стояла на пороге. «Где он?» – кричали. «Он дома», – отвечала она. «Почему не видно?» – «Потому что он не хочет». Толпа ахнула. Это было страшнее, чем если бы она сказала «не может». «Не хочет» означало выбор. Значит, исчезнуть можно по желанию.
Чтобы успокоить людей, власти устроили парад «За прозрачность». По улицам прошли колонны школьников с плакатами «Делиться – значит жить» и «Свет сильнее тени». На трибунах улыбались чиновники, толпа аплодировала, камеры фиксировали. Но аплодисменты звучали вяло, как дежурный жест. Все понимали: парады нужны там, где равновесие уже разрушено.
Тем временем в Пунктах Признания начали звучать новые фразы. Люди садились перед камерами и говорили: «Я завидую Зею». «Я хочу исчезнуть». «Я думаю о пустоте». Модераторы спешно классифицировали это как эмоциональный сбой, но знали, что это новая реальность.
Детские игры изменились. На дворах играли в «исчезновение»: один вставал в круг и закрывал глаза, остальные делали вид, что его нет. Игра быстро стала самой популярной. Родители запрещали, но запреты только усиливали азарт.
Подростки начали рисовать Зея. Никто не видел его вне эфира, поэтому каждый изображал по-своему: в маске, без лица, в тени. Эти рисунки расходились быстрее, чем лозунги власти.
Философы снова стали нужны. Они писали: «Пустота страшнее смерти. Смерть можно показать, пустоту – нет». Статьи мгновенно удаляли, но скриншоты гуляли по подвалам эфира.
Департамент запустил «ритуалы успокоения». Людей собирали в группы и заставляли хором повторять: «Я не боюсь пустоты. Я доверяю прозрачности». Камеры фиксировали, как сотни ртов произносят нужные слова. Но в голосах звучало фальшивое эхо.
Объявили охоту. Дроны летали над кварталами, сканировали сигналы. «Найдите Зея», – приказывали. Но пустоту нельзя было поймать. Она не оставляла следов.
Паника пробралась в магазины. Люди боялись покупать хлеб у соседки Зея: «Вдруг он тоже пропитался пустотой». На рынке торговцы кричали: «У нас всё прозрачно! Честно! Мы чистые!» Люди шли мимо дома Зея стороной, как мимо заразного.
В семьях начинались ссоры. «А если наш сын попробует так же?» – спрашивала мать. «Не попробует, мы будем следить», – отвечал отец. Но по ночам оба не спали, слушая тишину, которая теперь была страшнее любого крика.
Во сне люди начали видеть Зея. Это было страннее всего: его нет в эфире, но он появлялся в коллективных снах. В одних он стоял молча в пустой комнате, в других шёл по улицам невидимым, в третьих просто смотрел и не говорил. Эти сны будоражили сильнее реальности. Люди просыпались в холодном поту, но признавались: «Я видел его».
Появились первые тайные кружки подростков. Они называли себя «Тишинники». Они собирались в подвалах и шептали: «Он наш. Он сделал то, что мы не могли». Они пробовали сидеть вместе в молчании по пять минут, а потом делились ощущениями. «Я впервые почувствовал себя живым», – говорил один. «Я впервые не думал о зрителях», – признавался другой.
Власть ответила спектаклем «Тень опасна». На сцене актер изображал мальчика, который отказался делиться, и его тут же пожирала тьма. Зрители смотрели, хлопали. Но дети за кулисами шептали: «А вдруг тьма – это свобода?»
Появился учебник для школ: «Опасности пустоты». В нём говорилось, что пустота вызывает болезни, разрушает мозг, ведёт к смерти. Но чем больше об этом писали, тем сильнее хотелось попробовать.
И вдруг система дала ещё один сбой. У мужчины в другом районе на несколько секунд погас эфир. Потом вернулся. Сразу сообщили: «Техническая ошибка». Но слух пошёл: «Зей заразил его». Через день ещё у кого-то экран померк на миг. Паника усилилась. Люди начали проверять свои панели каждую минуту: «Я ещё виден?»
Пустота распространялась, как миф.
Перед экраном мерцал чёрный прямоугольник – место, где должен был быть Зей. Чем дольше на него смотрели, тем яснее становилось: поток – это зеркало, но зеркало не жизнь. Жизнь начинается там, где зеркало гаснет. Зей просто вышел за пределы отражения.
Город жил, но уже не так. Люди ели завтрак в эфире, делились снами, писали признания. Но в воздухе висела трещина. Как будто кто-то приоткрыл дверь в комнату, куда никто не должен был входить.
И главный вопрос звучал всё громче: кто он?
Глава 2. Слухи без автора
Слухи всегда жили в Городе Потоков, но раньше у них были имена. Любая недосказанность имела автора, таймкод, эмоциональную метку и аккуратный хвостик аналитики: кто сказал, когда, в каком настроении, с каким пульсом и после какого рекламного ролика. Ложь здесь была дисциплинированной, честно носила номер, не путалась с фактами и, если надо, извинялась в прямом эфире. Ничто не рождалось само по себе: каждое слово вытекало из чьего-то рта и падало на линолеум статистики, где его легко было поднять щипчиками и положить в баночку – «экспонат №…». Но после того, как погас канал Зея, начались рассказы, у которых не было ни баночки, ни щипчиков, ни подписей под стеклом. Они появлялись сами, как туман в шесть утра, и исчезали так же тихо, оставляя по стенам влажные следы, которые почему-то пахли свободой.
Сначала всё звучало невинно, почти детски. «Говорят, он живет в лесу». «Кто говорит?» – «Не знаю. Просто говорят». Потом: «Я слышал, что он научился исчезать и появляться». «От кого?» – «От всех». Ещё: «Мне сказали, что он пришёл во сне и попросил молчать». «Кто сказал?» – «Сон». Люди смеялись – недолго. Смех был вежливым, как на похоронах чужого дяди. Вежливость смеха всегда выдает страх. Страх здесь пах по-новому: не потом, не металлом, не лекарствами, а пустотой – тем, что не помещается ни в один контейнер города.
В столовых перестали обсуждать цены, погоду и чью-то неудачную новую прическу. За длинными столами, где вилки стучали о пластиковые подносы, шептались: «Он ест только хлеб и воду, чтобы не оставлять вкуса в эфире». «Он спит сидя, чтобы сны не падали на камеру». «Он дышит реже, чем положено, чтобы его не слышали стены». Никто не спрашивал «откуда». Вопрос «откуда» здесь всегда был формальностью, ритуалом вежливости перед данными. Теперь он звучал, как неприличность. Словно ты спрашиваешь у ветра паспорт.
В метро говорили тихо, но говорили все. Поезда входили в станцию, и на последней секунде, перед тем как двери сомкнутся, кто-то бросал внутрь: «Его видели в тоннеле, шёл по рельсам, а датчики не включились». Двери закрывались, и вагон уносил эту фразу дальше, к другим людям, к новым ртам. В следующем вагоне добавляли: «Он шёл босиком, чтобы не скрипеть подошвами». В третьем: «А рядом девочка, лицо закрыто шарфом». И уже никто не помнил, была ли девочка в самом начале.
Рынок всегда был хроникёром города – там новости измеряют в голосах. «Он герой!» – кричал продавец яблок. «Герой? Он трус!» – отвечал продавец сыра. «Вы оба лжете, он программа!» – вмешивался мужчина с лотком маринованных огурцов, и толпа терпеливо слушала его неверие, потому что неверие – тоже форма веры. Люди уходили с пакетами зелени, а в пакетах шелестели не листья – шелестел слух, и дома, когда нож резал укроп, он резал не зелень – тень.
Школы не успевали перестраиваться. Учителя закрывали доски ладонями, когда на них мелом появлялось «ЗЕЙ БЫЛ ЗДЕСЬ». Стирали, а через час надпись возвращалась – будто мел упрямился, а не руки подростков. «Кто написал?» – «Не знаю». «Кто сказал?» – «Никто». Это «никто» звучало, как чужой бог, которого никто не приглашал, но который всё равно нашёл дорогу. На классных часах проводили «минуты доверия» – дети по очереди признавались, что «слухи – зло». Рядом стояла камера и кивала ровно в такт словам. А потом, на перемене, кто-то рисовал в тетради силуэт мальчика без лица – и передавал тетрадку, не глядя: «Дальше».
Сны всегда были витриной города: ночью здесь показывали не только свое, но и общее. После Зея витрина стала складом, где вещи лежат без ценников. Люди просыпались и говорили: «Мне снилось, что он стоял на мосту и смотрел вниз». «Мне – что он строил дом под землёй». «А мне – что он шёл по воде и не оставлял следов». Эти сны не принадлежали никому, но совпадали. Совпадение – самый скользкий вид доказательства: кажется, что это уже факт, а на самом деле это просто хор, в котором каждый уверен, что поёт первый.
Власть, привыкшая ставить ярлыки на всё, что движется, выпустила ролик «Не верь слухам!». На экране актёр говорил: «Я слышал, что Зей вернулся», и тут же красными буквами вспыхивало «ЛОЖЬ УБИВАЕТ». Люди смотрели, кивали, закрывали ролик и шептали: «Значит, вернулся». Запретный хлеб всегда кажется свежим – даже когда это просто мука на языке.
В аптеке женщина с тонкими пальцами попросила «что-нибудь от пустоты». Фармацевт профессионально улыбнулась: «От пустоты есть общение». Женщина кивнула и ушла ни с чем. Ей нужно было лекарство, которое отключает экран внутри головы, а не тот, что висит на стене.
Появились кружки «тишинников». Они собирались в подвалах, где лампы гудели, как моря в старых фильмах. Сидели молча пять минут – на большее не хватало смелости. Потом делились шёпотом, потому что громкий голос звучит как предательство нового: «У меня звенело уши – тишина звучит». «Я впервые почувствовал, как пахнет мой голос». «Мне стало страшно – значит, живой». Их не надо было разгонять – страх делал это сам. Но каждый, уходя, прижимал к груди невидимую вещь: «моё». Даже если это «моё» ещё не имело формы.
Город ответил спектаклем «Тень опасна». На сцене мальчик в черной куртке переставал говорить и тут же превращался в дым, который зал вязал узлами. «Делиться – жить!» – скандировали из зала. Но у одной девочки в третьем ряду дрогнули губы: «А вдруг тень – это дверь?» Она не сказала этого в эфир, она сказала это ресницами, и камера, которая умела многое, не умела читать ресницы.
Чиновники придумали «реестр слухов» – красивую таблицу, куда заносили формулировки: «Зей вернулся», «Зей мертв», «Зей не человек», «Зей пророк», «Зей – каждый». Рядом ставили статусы: «не верифицировано», «опровергнуто», «в работе». Таблица была идеальной, как дворец на картинке, куда не заселяют людей, чтобы те не пачкали ковёр. Слухи сменялись и проходили мимо.
Иногда казалось, что сам город начал шептать. Идёшь по улице – и вдруг слышишь за спиной: «Он был тут». Оборачиваешься – пусто. Садишься в трамвай – и делаешь вид, что не знаешь фразы «он в тоннеле», хотя она у тебя на языке, как соль. Слух вошёл в походку людей – они стали идти чуть мягче, осторожнее, как по льду, у которого под ногами есть содержание. И он мог треснуть.
Одна ночь стала знаменитой тем, что в общем сновидении внезапно показали мальчика, похожего на Зея. Он стоял на крыше и держал в руках пустую коробку, как будто кого-то ждал. Утром департамент объяснил: «Артефакт, сбой, накладка потоков». Но объяснение было поздно: тысячи горожан проснулись с одинаковым ощущением – их кто-то тихо позвал. Слух впервые попробовал голос.
На утро город накрыло третей волной – бытовой и липкой. В очереди в булочную женщина отказалась от багета: «Его брала мать того мальчика». Продавщица покраснела: «Хлеб – честный, у нас всё прозрачно». «Тем хуже», – сказала женщина. Прозрачный хлеб не нужен тому, кто боится то, что проходит насквозь. В автобусе пожилой мужчина резко встал и уступил место девочке: «Садись, ты, наверное, устала от слухов». Девочка рассмеялась – впервые за неделю. Смех оказался лекарством, но ненадолго.
Потом начались «малые сбои». У одного человека эфир погас на секунду – он вскрикнул, как будто сердце пропустило удар. У другой – на две, руку с ложкой свело в воздухе, суп расплескался по столу. Третий потом рассказывал, запинаясь: «Я был и… меня не было». Алгоритмы писали «перегрузка», «интерференция», «обновление модуля». Город отвечал: «Заражение». Слово «заражение» любят те, кто боятся бессилия. Бессилие любит слово «заражение», потому что оно обещает хоть какую-то химию против тишины.
В комнате кто-то шептал: «Ты здесь?» – но спрашивал не его. Слух жил в горле, как кошка – отдельно от хозяина, настороженно и живо, будто одно из немногих созданий, ещё не согласившихся делиться.
В полдень на площади устроили «урок антислуха». Учительница с идеально расчерченной челкой вела толпу через упражнения: «Повторяем за мной: я доверяю проверенному». Толпа послушно повторяла, микрофоны отключали случайные фальшивые голоса, добавляли теплоты в общий шум. «Слух без автора – вирус». Толпа: «– вирус». «Источник не найден – значит, источник ложен». Толпа: «– ложен».
Всё напоминало дыхательную гимнастику: облегчение приходило по расписанию, но в лёгких всё равно оставался чужой воздух – не твой, не прожитый.
В храмах Прозрачности священники эмоций – мужчины и женщины с мягкими голосами и честными зрачками – читали проповеди о вреде неоформленного слова. «Слово без подписи – нож в спину». Люди ставили сердечки – электронные свечи – у икон «самых открытых», где незримые святые всё ещё плакали правильно и улыбались в такт молитве. Только теперь у некоторых прихожан слегка дрожали руки. Дрожащая рука – единственное, что не ловят камеры: она дрожит не от страха, а от признания вины, которую никто не сумел доказать.
Соседи на лавке обратились к новой экономике лжи: «Я знаю, кто первый сказал, – сказал первый. – Тот лысый из третьего подъезда, он всегда по утрам выносит мусор без пакета». «Лысый? – удивилась женщина с красными губами. – Он ведь немой». «Ну значит, шепчет», – победно подвёл итог первый. Городу нравились такие сцены: трагикомедия успокаивает, потому что помогает лицу найти выражение, когда слово потеряно окончательно.
Ночами «тишинники» стали дольше рисковать – по десять, по пятнадцать минут сидели, ничего не говоря. Они придумали жест, похожий на замок без ключа: три пальца вместе, два спрятаны в ладонь. Его нельзя было запретить – рука всегда имеет право на судорогу. Наутро модераторы выносили постановление: «Пальцевые искажения – признак усталости от потока». В эту формулу верили все, кроме пальцев.
Власть запустила «охоту на исток». Департамент данных обещал найти, откуда пошло первое «он вернулся», «он у воды», «он шёл по рельсам», «он – на крыше». Но алгоритмы возвращали один и тот же ответ: «размытый источник», как фотография, сделанная рукой, которая в момент снимка решила стать птицей. В отчетах появилась новая строка: «не подлежит атрибуции». Её старательно зачеркивали, а она проступала снова – как водяной знак.
Детям раздали специальные браслеты «Антиэхо». Они слегка покалывали кожу, если ребёнок произносил фразу, не прошедшую проверку. На переменах звенело повсюду – дети щурились, смеялись, соревновались в чувстве боли. «А если шепотом?» – «Покалывает слабее». «А если думать?» – «Не ловит». Фраза «не ловит» стала личным праздником, о котором никто не говорил в эфир.
Однажды ночью общегородской сон вдруг собрался в историю. Никто не понимал, как это вышло, но утром тысячи людей могли покадрово пересказать одно и то же: пустая лестница, по ней поднимается мальчик, за ним идёт девочка – не видно лица, только запястье с тонким шрамом от браслета; они доходят до двери, на двери написано мелом: «не входить без себя». Они входят. В комнате – ничего. В этом «ничего» слышно, как кто-то тихо смеётся. Смех – будто музыка, которую забыли записать. Департамент сна разослал письмо: «Феномен коллективной синхронизации, артефакт». Но люди целый день ловили на себе чужие взгляды – как после общего признания.
Суды тоже изменились. На лавке подсудимого всё чаще сидели те, кто «распространял». Им подключали усиленный режим, вытаскивали из головы фразы, и там, как назло, оказывались не слухи, а детские воспоминания: зелёная краска на заборе, запах вареных макарон, первый снег у подъезда, случайная кошка, которая глядела, как бог. Судьи путались, зрители – скучали. Скука стала последним союзником правды: когда скучно, хочется настоящего. Настоящее не умеет развлекать – это его главная вина и главное оправдание.
Появились «переписчики пустоты» – подростки с тонкими блокнотами, которые записывали услышанное, не указывая источника. Их тексты разлетались быстрее мемов: в них не было ничего смешного, зато было место, в которое можно поставить своё. «Он сидел у воды и бросал камни – не было кругов». «Он лёг на землю и прислушался – земля спала без снов». «Он смотрел на нас и не видел – потому что мы стояли в зеркале». Эти строки называли «чёрными сказками». Их любили те, кто не умел больше ждать утро.
Городская пропаганда ответила спектаклем-лекцией «Слух как болезнь». На сцену выходил актер в белом халате и рисовал на доске схему заражения: рты – уши – экран – лайки – рты – уши. «Видите замкнутый круг?» – спрашивал он. Зал кивал. «Выход – в авторстве», – торжествующе говорил актёр. И тут с галерки кто-то крикнул: «А если автор – мы все?» Крик вырезали из эфира, но актер на секунду сбился, и зрители услышали, как громко дышит тишина между его репликами.
В отделе статистики началась маленькая война между двумя графиками: «уровень прозрачности» и «уровень доверия». Раньше они гуляли вместе, как старые супруги. Теперь доверие упало на долю процента, а прозрачность – осталась на месте. Это было похоже на сердце, которое продолжает биться в груди манекена. Мужчина с тихими глазами, тот самый, что слушал музыку, смотрел на графики и думал: «Мы всё ещё видим – но всё меньше верим». Ему хотелось выключить свет и посидеть так час – просто чтобы почувствовать, где теперь живёт вера. Он не выключил – у него были соседи.
В магазинах начались «чистые полки» – секции, где над вывеской висел знак: «товары проверены на отсутствие связи со слухами». Это выглядело комично и страшно. Комично – потому что всё в городе было связано со всем. Страшно – потому что люди стали покупать только здесь. Они выбирали не продукты – алиби.
На стенах департамента гармонии однажды утром обнаружили аккуратную надпись карандашом: «я слышал тишину». Её невозможно было снять растворителем – карандаш въедается в краску так же, как простые слова въедаются в голову. Поверх надписи повесили экран с роликом о вреде слухов. Экран светился. Надпись из-под него всё равно читалась.
Вскоре появились «протоколы опровержений». Каждый вечер на городском канале публиковали список: «Слух № 2145 – ложь», «Слух № 2146 – ложь», «Слух № 2147 – не проверено». Списки становились длиннее, чем новости. Люди читали их как поэзию, где смысл рождается из повторения. Слово «ложь», повторённое тысячу раз, начинает звучать как имя.
Соседи всё чаще стучали в двери не из тревоги, а из растерянности. «Мы хотели попросить… расскажите что-нибудь настоящее». Люди разводили руками: «Сегодня – ничего». «Почему?» – «Потому что…» – и фраза проваливалась, как ступень, которой не построили.
Слухи начали обрастать географией. «Его слышали у реки», – говорили в одном квартале. «Нет, у водонапорной башни», – в другом. «Сидел на крыше школы № 49 и ел яблоко». Кто-то откусил яблоко на крыше всерьёз – лишь бы хоть раз совпасть с рассказом. В этот момент город впервые понял: слух – это не только звук. Это просьба о совпадении. Совпасть с чем-то, чего нет, – искусство, которое здесь никто не преподавал.
И постепенно всё это – крошки с чужих столов слов – начали складываться в фигуру. В неё можно было верить, можно было бояться, можно было смеяться, но нельзя было больше игнорировать. Фигура не принадлежала Зею. Как только исчез автор, его место занял Город.
Утро началось с дождя, который не был погодой – он был шумом, в котором удобно слышать то, чего не слышно. Люди вышли под зонтами и продолжили разговор там, где остановились вчера: «Он вернётся», «Он уже вернулся», «Он никогда не уходил», «Он и есть то, что у нас внутри». Последняя фраза оказалась самой заразной. Её пытались объяснить, упростить, вычистить. Её повторяли так часто, что она стала почти пословицей. Пословица – это слух, доживший до пенсии.
Департамент выкатил новую инициативу – «Линии чистого слова». Любой мог позвонить и назвать «первый источник». Звонили, называли имена врагов, бывших друзей, соседей, случайных прохожих. «Это он сказал!» – «Это она шепнула!» У операторов заканчивались вежливые «спасибо». Операторы плакали дома, потому что им казалось, что они подрабатывают в старой мифологии, где сосед – всегда колдун. «Чистое слово» оказалось грязнее воды после большой стирки.
На фабриках падала производительность – люди обсуждали вместо станков. Начальники пытались проводить «пятиминутки рациональности». Выводили на сцену сотрудника, заставляли говорить «я не верю слухам» и вручали ему пакет с печеньем. Печенье было вкусным, но не всем хватало. Голод растет там, где кормят страхом.
В школах провели «урок тишины». Детей посадили в спортзале и попросили молчать три минуты. Камеры текли тяжелым мягким светом, напоминая про своё милосердие. Через сорок секунд в заднем ряду кто-то тихо сказал: «Я слышу, как я есть». Учитель велел выйти. В эфир попала версия: «нарушение дисциплины». В детях осталось другое: «внутри есть звук».
На автобусной остановке мальчишка в чёрной куртке стоял и ждал, как будто за ним кто-то приедет. Рядом две женщины спорили, правда ли, что «десятки каналов» погасли «на пять секунд». Мальчишка вдруг повернулся к ним и ласково сказал: «Пять секунд – это тоже жизнь». Женщины смутились, автобус подъехал, мальчишка уехал. Слух тут же записал сцену в свои хроники: «Он говорил». Хотя не он говорил – говорил обычный мальчик из соседнего дома. Но слух не заботится о паспорте. Ему важен миф.
Вечером из «Пункта Признания» вышла девушка с бледным лицом. Её спросили: «Что вы сказали?» Она ответила: «Я сказала, что верю голосу без рта». Её улыбка была какой-то ранней – как весна, которая приходит не по расписанию. На следующий день эта фраза гуляла по городу, меняя наряды: «Верю голосу без рта», «Слышу то, что не звучит», «Есть вещи, которые случаются внутри». Фразы носили одинаковую обувь – шагали с одинаковой скоростью.
Чиновники устроили «Марш фактов». По центральной улице прошла колонна экранов с цифрами: рождаемость, смертность, уровень счастья, средняя мощность сигнала. Цифры были хорошими – ровными, бодрыми. Люди шли вдоль и чувствовали, как их укачивает. Любое долгое «хорошо» укачивает. Особенно если где-то рядом ползёт нецифровой страх.
Ночью кто-то выложил в общий поток файл – без подписи. Там не было изображения, только звук. Долгая тишина, в которой вдруг слышно дыхание. Не тяжелое, не прерывистое – обычное, человеческое. «Это он?» – спрашивали. «Это любой», – отвечали и были правы оба. Файл удалили, но копии остались в частных хранилищах. Их включали в наушниках перед сном, как раньше включали музыку. Тишина оказалась самым громким треком недели.
Полиция провела показательный рейд. На крышах искали «сигнал пустоты». С дронов спускались тонкие шнуры, нюхали воздух, щекотали антенны. Репортер рассказывал: «Мы почти поймали след». След – вещь, которую удобнее ловить, чем смысл. Наутро рейд признали «успешным» – словом, которое уговаривает реальность быть послушной. Внизу, на асфальте, остались следы от ботинок, похожие на ноты без такта.
В один из дней в городской библиотеке исчезло сразу несколько книг с белыми полями – те, в которых люди делали пометки карандашом. Библиотекарша, тихая женщина, сказала: «Они ничего не украли. Они взяли белое». Полицейский записал: «Преступление не установлено». Слух записал: «Зей читает полями».