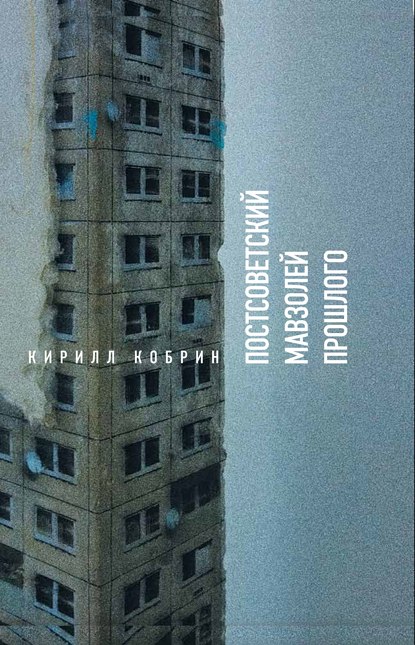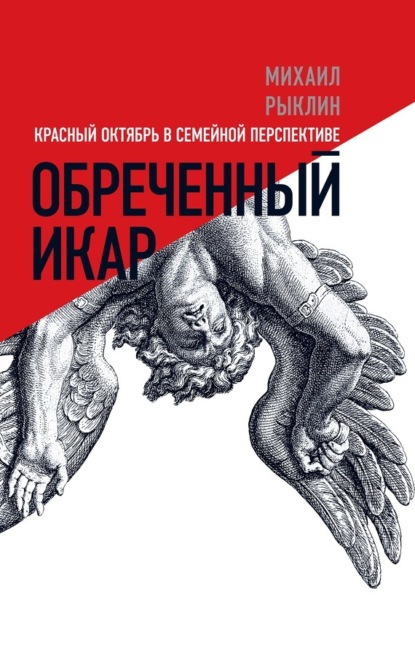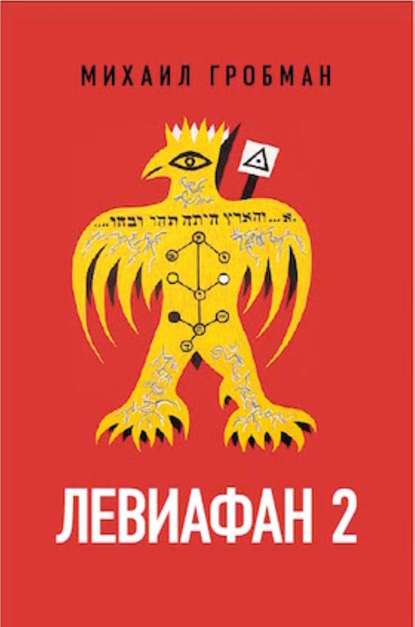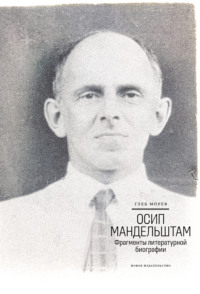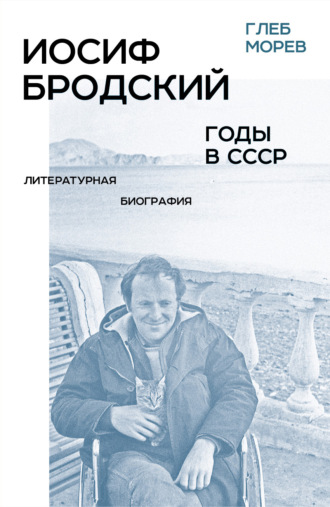
Полная версия
Иосиф Бродский. Годы в СССР. Литературная биография
Однажды зимой 1958 г. мы возвращались с Бродским после вечерних занятий по домам, лежавшим на одной и той же городской оси, вися на подножке 47-го. Когда автобус вырулил на мост через Неву, Бродский прокричал мне: «Я решил не принимать». Грамматический объект назван не был. Но намек на фразу Маяковского, заявившего, что для него, как и для прочих московских футуристов, не стоял вопрос о том, принимать или нет большевистскую революцию, было не трудно расшифровать[82].
Другой причиной занятой Бродским по отношению к советской литературе непримиримой позиции стало обретение им альтернативных источников писательской легитимации.
Летом 1961 года[83] Бродский познакомился с Анной Ахматовой.
3
Взаимоотношениям Ахматовой и Бродского, чья фактология суммирована Р. Д. Тименчиком[84], посвящена обширная научная литература[85]. Основным предметом дебатов при освещении этого сюжета является вопрос о природе влияния, которое личность и творчество Ахматовой оказали на молодого Бродского, – было ли это влияние поэтическим (литературным) или лежащим по преимуществу в сфере «человеческого».
Сам Бродский, говоря об отношениях с Ахматовой, многократно (хотя иногда и с оговорками) утверждал последнее, делая акцент именно на личности Ахматовой: «Не думаю, что она оказала на меня [литературное] влияние. Она просто великий человек», – сформулировал он в первом же публичном обращении к ахматовской теме в интервью лета 1973 года[86]. Позднее, в 1986 году, в посвященном Ахматовой разговоре с Натальей Рубинштейн Бродский добавляет к уже сложившемуся у него к этому времени нарративу о знакомстве с Ахматовой (как известно, сама она называла такие устные мемуарные конструкты «пластинками») одну существенную деталь, позволяющую, как кажется, понять специфический контекст того «величия», о котором применительно к Ахматовой он всегда говорит.
На протяжении двух или трех месяцев <…> я продолжал наезжать в Комарово, либо сам, либо с кем-нибудь из моих друзей, и навещал Анну Андреевну. Но это носило характер скорее вылазок за город, нежели общения с великим поэтом. Во время этих встреч я показывал Анне Андреевне свои стихотворения, которые она хвалила, она мне показывала свои. То есть чисто профессиональный поэтический контакт имел место. Это действительно носило, скорее, характер поверхностный. Пока в один прекрасный день, возвращаясь вечером из Комарово, в переполненном поезде, набитом до отказа – это, видимо, был воскресный вечер. Поезд трясло, как обычно, он несся на большой скорости, и вдруг в моем сознании всплыла одна фраза, одна строчка из ахматовских стихов. И вдруг я в какое-то мгновение, видимо, то, что японцы называют сатори или откровение, я вдруг понял, с кем я имею дело. Кого я вижу, к кому я наезжаю в гости раз или два в неделю в Комарово. Вдруг каким-то образом все стало понятным, значительным. То есть произошел некоторый, едва ли не душевный, переворот[87].
На уточняющий вопрос интервьюера, какая строчка имеется в виду, Бродский отвечает цитатой из «Пятой Северной элегии» Ахматовой: «Меня, как реку, / Суровая эпоха повернула».
Р. Д. Тименчик справедливо отмечает, что Бродского, «поклонявшегося Баратынскому», мог привлечь «выразительный стиховой перенос, кажется, наследующий свою семантику из enjambement'ов Баратынского»[88]. Вместе с тем существенно, что «Пятая Северная элегия» (1945) – один из главных автометаописательных текстов Ахматовой, в центре которого стоит проблематика поэтической биографии в том специфическом ракурсе, какой придавали ей обстоятельства российской истории после 1917 года, где Поэт оказывался не только противопоставлен пореволюционной «суровой эпохе», но и «объективно» становится ее жертвой («мне подменили жизнь»). При этом финальной (и главной) смысловой точкой стихотворения Ахматовой является ее кажущийся парадоксальным отказ от признания себя исключительно объектом государственного насилия и утверждение своей победительной субъектности и неповторимой ценности (в том числе творческой) сложившейся во враждебных обстоятельствах биографии, противопоставленной абстрактно-благополучной «несостоявшейся жизни» («Но если бы откуда-то взглянула / Я на свою теперешнюю жизнь, / Узнала бы я зависть, наконец…»). Представляется, что именно понимание внешних обстоятельств как материала, в противоборстве с которым (во многом таинственно) строится неординарная биография Поэта, сохраняющего независимость – личностную и творческую – и вопреки всему утверждающего таким образом свое «величие», привлекло молодого Бродского (после 1956 года сделавшего, как мы помним, выбор в пользу отказа от принятия советских «правил игры») в этом тексте и – шире – в фигуре Ахматовой. Она стала для него персонификацией фигуры Поэта («великого поэта») в традиции, актуальной для русской культуры со времен Пушкина – как некоей высшей нравственной инстанции, равной верховной власти и ведущей с ней (зачастую полемический) диалог. Обучение языку этого диалога и стало для Бродского важнейшим уроком, полученным им у Ахматовой, – и именно об этом, как представляется, он говорил, вспоминая Ахматову, Соломону Волкову:
Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя – от того душевного, духовного – да не знаю уж как там это называется – уровня, на котором находился – от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она[89].
Именно влиянием поведенческого языка Ахматовой определяются, на наш взгляд, сложившиеся у Бродского как раз в годы общения с ней ключевые нравственно-эстетические принципы – отказ «чувствовать себя жертвой»[90], отказ от «драматизации» угнетающих внешних обстоятельств[91] и признание «независимости» высшей ценностью[92]. Отношение к Ахматовой как к обладающему полнотой Знания учителю зафиксировано в письме Бродского Я. А. Гордину от 20 ноября 1964 года: советуя Гордину показать Ахматовой рукопись о декабристах, он замечает: «Она знает (и) об этом больше всех»[93]. В 1990 году Бродский подытожит: «Ей я обязан девяноста процентами взглядов на жизнь»[94]. Как мы увидим далее, это не было преувеличением.
Характерно, что вызвавшее у поэта «душевный переворот» стихотворение Ахматовой, написанное в 1945 году, в момент чтения его Бродским не было опубликовано[95]. Ситуация как бы наглядно воспроизводила для молодого автора целостную картину существования поэзии в СССР – ранее нарисованную самой Ахматовой (чьи слова задокументировал сексот госбезопасности): «Участь русской поэзии – быть на нелегальном положении. Печатают макулатуру – Симонова, а Волошина, Ходасевича, Мандельштама – нет»[96].
Все это не могло не оказать самого существенного воздействия на выбор Бродским модели литературного поведения; огрубляя, этот выбор можно описать так: или «быть на нелегальном положении», как Ахматова, или идти путем заурядного советского стихотворца, пробиваясь в печать с помощью компромиссов. Для двадцатиоднолетнего Бродского ответ был очевиден.
4
Социокультурный выбор, осуществленный Бродским и еще несколькими ленинградцами (Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом, Евгением Рейном), составившими в 1961–1964 годах ближайшее литературное окружение Ахматовой (называвшей эту группу молодых поэтов «волшебным хором»[97] и соотносившей ее с группой акмеистов, к которой когда-то принадлежала она сама[98]), находил ощутимую поддержку с ее стороны. По воспоминаниям А. Г. Наймана,
Ахматова однажды назвала нас «аввакумовцами» – за нежелание идти ни на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание Союза писателей[99].
Ситуация этико-политического выбора, в которую были поставлены и Бродский, и остальные члены «волшебного хора», имела для Ахматовой свойства автопроекции – после большевистского переворота 1917 года ей самой пришлось делать подобный выбор, причем уникальная позиция «самоустранения <…> из [советской] литературной жизни»[100], которую она окончательно заняла к середине 1920-х годов, характеризовалась беспрецедентным для тогдашних писательских кругов радикализмом, распространявшимся и на участие в официальных литературных институциях. В 1929 году в знак протеста против травли Е. И. Замятина и Б. А. Пильняка Ахматова выходит из Всероссийского Союза писателей. В 1934 году она – единственная из сколько-нибудь заметных писателей, живущих в СССР – не подает заявления на вступление в создаваемый Сталиным Союз советских писателей[101]. Несмотря на некоторое формальное смягчение (вызванное инициативами власти в 1939 году) этой позиции, Ахматова вплоть до конца жизни сохраняет внутреннее дистанцирование от официального литературного мира, даже в биографии Мандельштама, позиционируемого ею с конца 1950-х годов в качестве ближайшего литературного соратника, отказываясь принимать и понимать его усилия по интеграции в СП в 1937–1938 годах[102]. Политическая составляющая ее влияния на Бродского эксплицировалась самой Ахматовой в дружеском кругу (в контексте преследований молодого поэта властями): «Будут говорить: он антисоветчик, потому что его воспитала Ахматова. „Ахматовский выкормыш“»[103].
Определяющее для дальнейшей судьбы Бродского и для его (само)позиционирования в литературном поле 1960-х годов влияние патронажа Ахматовой – с одной стороны, со всей присущей ей системой политических и эстетических пристрастий и, с другой, с выработанной ею уникальной моделью автономного существования в советской литературе – становится особенно отчетливым на фоне одновременно развивающихся литературных карьер его сверстников и знакомых, также пользовавшихся поддержкой авторитетных фигур из числа советских классиков с дореволюционным «стажем». Прежде всего мы имеем в виду молодого (на четыре года старше Бродского) ленинградского поэта Виктора Соснору[104].
Спустя два дня после того, как органы милиции по предписанию КГБ вынесли Бродскому «предупреждение о трудоустройстве», 21 июля 1962 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась анонимная заметка о выходе в Ленинграде нового поэтического сборника – «Первая книга поэта-слесаря»:
Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» выпустило первую книгу стихов Виктора Сосноры «Январский ливень».
Автор работает слесарем на Невском машиностроительном заводе имени В. И. Ленина. Известный советский поэт Николай Асеев написал в предисловии: «Соснора привлек мое внимание стихами, не похожими на обычные, часто печатаемые». И действительно, читатель найдет в книге поэзию своеобразную, самобытную, хотя голос поэта подчас резковат.
Второй раздел книги, названный «За Изюмским бугром», написан по мотивам «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве»[105].
Этот газетный текст с замечательной полнотой описывает сценарий литературной легитимации, полностью противоположный выбранному Бродским.
Начать с того, что отчетливо педалируемая (вынесенная в заголовок заметки) социальная идентификация молодого поэта как «слесаря» призвана снять вопрос, оказавшийся (с подачи КГБ) роковым для Бродского: на момент публикации первой книги Соснора, состоявший в руководимом Д. Я. Даром ЛИТО «Голос юности», еще не был членом СП[106] и, в соответствии с советской идеологией, не мог обозначаться просто как «поэт» – эту квалификацию давала лишь кооптация в ряды советских писателей, то есть членство в их официальном союзе. «Самозванное» (то есть не санкционированное государством), как в случае Бродского, причисление себя к литераторам подлежало общественному осуждению и наказанию – в таком случае с точки зрения властей оно служило лишь маскировкой социального паразитизма («тунеядства»).
Эти правила советского литературного быта хорошо понимал избранный Соснорой «патроном» и сыгравший ключевую роль в издании «Январского ливня» Н. Н. Асеев – один из ветеранов советской поэзии (сверстник Ахматовой), начинавший в 1910-е годы как футурист, впоследствии, однако, по стремящемуся к академической беспристрастности замечанию М. Л. Гаспарова, «сознательно ушедший на подчиненную роль при Маяковском, а потом быстро обессилевший в языковом бесчувствии новой эпохи»[107] и в этом качестве ставший лауреатом Сталинской премии (1941).
С констатации:
<…> с 1958 г. по сей день Соснора слесарь Невского Машиностроительного завода имени Ленина. Трудная биография и трудные стихи, так же разнородные, как и переброска с места на место в годы детства. Трудный путь комсомольца-слесаря в литературу[108], —
начинает Асеев внутреннюю рецензию на книгу Сосноры, обосновывая в полном соответствии с идейными установками компартии ценность стихов молодого автора его социальным происхождением и опытом.
Как видим, использованный Асеевым, давно и полностью принявшим установленные советской властью правила игры в литературе, метод протежирования молодому поэту оказался чрезвычайно эффективным. По замечанию Льва Лосева, Соснора (по сравнению с Бродским) «решительнее экспериментировал с литературными формами»[109] – и газетная оговорка «голос поэта подчас резковат» подразумевает именно этот, восходящий к Маяковскому (канонизированному еще в 1936 году Сталиным), «советский авангардизм». Однако для официальной литературной системы он был (пусть и с оговорками) допустимее более консервативной, но зато отягощенной независимым от общественных конвенций поведением поэтики Бродского, ориентировавшегося, в свою очередь, на уникальный опыт «асоветского» существования Ахматовой, для которой реализуемые Асеевым сценарии литературного патронажа были неприемлемы[110].
5
Одной из составляющих ахматовской поддержки бескомпромиссности «аввакумовцев» было демонстративное противопоставление Бродского, уже к 1962 году выделяемого Ахматовой из этого круга в качестве бесспорного лидера, – молодым корифеям тогдашней «официальной» поэтической сцены в СССР, в первую очередь Евгению Евтушенко и Андрею Вознесенскому. Таким образом, к Ахматовой восходит сыгравшая, как мы увидим далее, в литературном и биографическом самоопределении Бродского немаловажную роль тема его «соперничества» с этими вождями оттепельной советской поэзии.
Сам Бродский позднее вспоминал об этом так:
Единственное отталкивание, которое имело место быть [у Ахматовой], это отталкивание от молодых людей в Москве, которые, как ни горько и ни стыдно, представляли русскую поэзию за рубежом в то время. И были весьма популярны, как, впрочем, они и сейчас популярны среди молодежи. Я имею в виду Евтушенко и Вознесенского[111].
В этот период Ахматова, всегда внимательная к биографическому тексту, особенно увлечена вопросами литературной биографии и связанной с ней проблемой места в поэтической иерархии – прежде всего, применительно к себе самой и к Осипу Мандельштаму, чья поэзия после многолетнего перерыва возвращалась тогда к читателю. С точки зрения Ахматовой, ее литературный путь, искаженный, с одной стороны, цензурными запретами в СССР, а с другой – эмигрантской дезинформацией и непониманием, нуждается в «правильном» освещении, возможном только при сохранении ее контроля над необходимой для этого информацией. Этот же принцип, впоследствии взятый, по нашему мнению, именно с подачи Ахматовой на вооружение Н. Я. Мандельштам, используется ею при подходе к восстановлению места Мандельштама в русской литературе. Но если работа по автоканонизации и канонизации Мандельштама есть, в сущности, ретроактивное исправление ошибок прошлого, то литературная биография Иосифа Бродского, разворачивающаяся на глазах, становится для Ахматовой полем синхронного развитию этой биографии приложения усилий по новому, представляющемуся ей справедливым, картографированию литературного поля.
Как замечает Р. Д. Тименчик, блокноты Ахматовой, откуда она читала вслух и давала в копиях стихотворения молодого поэта своим литературным знакомым, «послужили в известном смысле каналами распространения текстов Бродского»[112]. Помимо этого она становится своего рода проводником поэзии Бродского в «большую печать»[113]: впервые поэтическая строка Бродского в сопровождении «говорящих» посвященным инициалов «И. Б.» опубликована в качестве эпиграфа к стихотворению «Последняя роза» в январском номере «Нового мира» за 1963 год[114], где подборка Ахматовой соседствует со ставшими литературной сенсацией рассказами Александра Солженицына «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Ситуация, беспрецедентная в истории русской литературы: первое обозначение в печати молодого автора происходит в статусном обрамлении текстов живого классика. Современниками этот жест был прочитан как наименование Ахматовой своего «избранника» – поэтического преемника[115].
Именно Ахматова становится той авторитетной литературной инстанцией, которая инициирует использование применительно к Бродскому номинаций «первого поэта» и «гения». Происходит это, прежде всего, в полемическом контексте противопоставления Бродского популярным советским авторам (и несмотря на известный первоначальный скептицизм ахматовской аудитории):
Стихи И. Бродского. Как-то я все не могу поверить, что Бродский гений, хотя Анна Андр<еевна> это и утверждает[116].
<…> она мне очень пренебрежительно говорила о Евтушенке, очень пренебрежительно об Ахмадулиной <…> И потом сказала: «А вот великий поэт – Бродский»[117].
Все время были разговоры вокруг молодой российской поэзии. Очень трогательное отношение было у Ахматовой к Бродскому. Он постоянно присутствовал как великий поэт. <…> Я спрашивал: «А почему великий?»[118]
Бродского считала лучшим поэтом. <…> Я высоко ценю Евтушенко и Вознесенского, признался ей в этом. Ахматова не оспаривала их талант, но сказала, что рядом с Бродским таких поэтов как бы и нет[119].
Впервые о поэте Бродском мы услышали от Анны Ахматовой. «Как, вы не знаете нашего премьера?» – спросила она с удивлением и нежностью[120].
Дочь эмигранта Г. М. Воронцова-Вельяминова сообщала о разговоре июля 1965 года: «На его вопрос о том, кто, по ее мнению, лучший из молодых поэтов, она ответила не Евтушенко и Вознесенский, а Бродский. Бродский тогда был мало известен на Западе, да и в России тоже»[121].
Последняя фраза, точно отражающая социокультурную ситуацию 1960-х годов, указывает на важнейший элемент конструируемого Ахматовой нарратива о новом «первом поэте» России – где, с одной стороны, присутствует санкционированная авторитетом Ахматовой высшая степень поэтического признания, а с другой – резко контрастирующая с ней советская реальность, не признающая за подобным механизмом негосударственной/неофициальной канонизации никакой легитимности. Это культурное, социальное и в конечном счете политическое противостояние можно символически персонифицировать в виде формулы: Ахматова vs. судья Савельева, где имя Ахматовой будет репрезентировать представление о Бродском как о «первом поэте», а фамилия судьи – напоминать о том, что с точки зрения государства и подавляющего большинства читающей публики в СССР такого поэта не существует.
Это драматическое напряжение, возникшее на самом раннем этапе писательского пути Иосифа Бродского, будет определять его литературную биографию всего советского периода.
6
Столь заметная человеческая и литературная приязнь со стороны Ахматовой, разумеется, не могла не повлиять на самоощущение молодого Бродского. По точному замечанию Давида Самойлова, «такое признание, по-видимому, помогло [Бродскому] рано выработать высокую самооценку, столь необходимую для его поэтической личности»[122]. Следствием знакомства с Ахматовой стало и формирование у него обширной «стиховой „ахматовианы“»[123] – серии поэтических обращений к старшему поэту, начатой в июне 1962 года стихотворным подношением ко дню рождения («А. А. Ахматовой» [«Закричат и захлопочут петухи…»]), строка из которого, напомним, через полгода будет использована ею в качестве эпиграфа, впервые печатно обозначившего присутствие имени Бродского в русской поэзии.
Поэтический диалог с автором, который, подобно Ахматовой в 1960-е годы, воспринимается современниками как (живой) завершитель некоей художественной традиции, уже не принадлежащей современности («последний поэт», в терминологии Р. Д. Тименчика[124]), создавая небанальную коммуникативную ситуацию, очевидным образом сигнализирует о свойственном «адресанту» чувстве литературного «преемничества». У Бродского это чувство осложнено, как справедливо отмечает Г. А. Левинтон, «непосредственным ощущением близости, причастности, непрерывности не поэтической традиции, а самого существования „поэтов всех времен“ (по выражению Кюхельбекера)»[125]. Последнее объясняет, в частности, и то, почему в диалоге с Ахматовой для Бродского оказываются важны не поиск стилистических сходств, свидетельства «литературного влияния» и т. п., но прежде всего манифестация (исторической) общности судеб:
Разделенье не жизнью, не временем,за пространством с кричащей толпой,разделенье не болью, не бременеми хоть странно, но все ж не судьбой[126].(Эти строки Ахматова безошибочно выделит в качестве смысловой доминанты посвящения Бродского, процитировав их в одном из своих блокнотов в 1963 году:
Иосифу Бродскому
от третьего петербургского сфинкса
на память
24 марта
1963
Комарово
И. Б.
Разделенье не болью не бременем
и хоть странно, но все ж не судьбой.
А. <…>[127])
Маркером такой биографической общности не в последнюю очередь является для Бродского проблемный статус поэта в окружающем социуме («Не услышу я шуршания колес, / уносящих Вас к заливу, к деревам, / по Отечеству без памятника Вам» [«А. А. Ахматовой», 1962]).
Для Бродского важна здесь вписанность в определенный, соотносящийся с именем Ахматовой, поэтический ряд, оказывающийся, что самое существенное, внеположным по отношению к советской современности с ее рестриктивным, политически ангажированным – и как следствие чрезвычайно обедненным – пониманием мировой культуры. Следствием такого генезиса поэзии Бродского – а не «содержания» его стихов – становится восприятие ее официальными литературными (и политическими) кругами как «несоветской»: «непонятность корней [поэзии Бродского] ведет к ощущению чуждости, а значит – к [ощущению] враждебности», отмечал, говоря в 1974 году об отношении к Бродскому властей, Е. Г. Эткинд[128].
Неслучайно обращение Бродского к классическому для реализации этой установки жанру In memoriam косвенно связано с именем Ахматовой. Речь идет о первом у Бродского тексте «на смерть поэта», обращенном к Роберту Фросту, о смерти которого он узнал в конце января 1963 года в Комарове и которого считал «единственным из всех зарубежных [поэтов], похожим на Ахматову»[129]. В августе 1962 года Ахматова встречалась с Фростом во время пребывания того в Ленинграде и рассказывала Бродскому об этой встрече[130].
Значит, и ты уснул.Должно быть, летя к ручью,ветер здесь промелькнул,задув и твою свечу.Узнав, что смолкла вода,и сделав над нею круг,вновь он спешит сюда,где дым обгоняет дух.Позволь же, старик, и мне,средь мертвых финских террас,звездам в моем окнесказать, чтоб их свет сейчас,который блестит окрест,сошел бы с пустых аллей,исчез бы из этих мести стал бы всего светлейв кустах, где стоит блондин,который ловит твой взгляд,пока ты бредешь одинв потемках… к великим… в ряд[131].Текст Бродского «На смерть Роберта Фроста» (30 января 1963), очевидно не вполне удовлетворивший поэта (он никогда не печатал этих стихов), интересен прежде всего как «первый шаг к регулярному приему соположения в стихах Бродского голосов русской и мировой поэзии»[132] (причем в числе первых явственно обозначено присутствие самого автора[133]) и как место появления поэтической формулы «к великим в ряд», обозначающей (посмертное) присоединение поэта к сонму выдающихся предшественников.
Эта принципиальная для Бродского установка, закрепленная в 1965 году стихами «На смерть Т. С. Элиота», оказывается «объективно» (то есть, как представляется, без специального авторского умысла) близка пониманию поэзии акмеизма как «тоски по мировой культуре»[134], разделяемому Ахматовой, и «синхронистическому» восприятию истории ею (и Мандельштамом), когда
существует некий высший уровень, на котором ось последовательности транспонируется в серию актуально сосуществующих явлений, принадлежащих современности и улавливающих будущее, как слово – смыслы[135].
Стихи на смерть Элиота предсказуемо встречают чрезвычайно лестную оценку Ахматовой («мне даже светло от мысли, что они существуют», – пишет она Бродскому в феврале 1965 года[136]), а самый содержательный ее письменный отзыв о поэзии Бродского, оказавшийся итоговым, знаменательным образом посвящен именно этой, «неоакмеистической», стороне его поэтики – причем в принципиальном для Ахматовой (следующем пониманию ею истории как «вектора, противоположного сознательно полагаемой воле поэта»[137]) полемическом соотнесении с «официальной» советской поэзией: