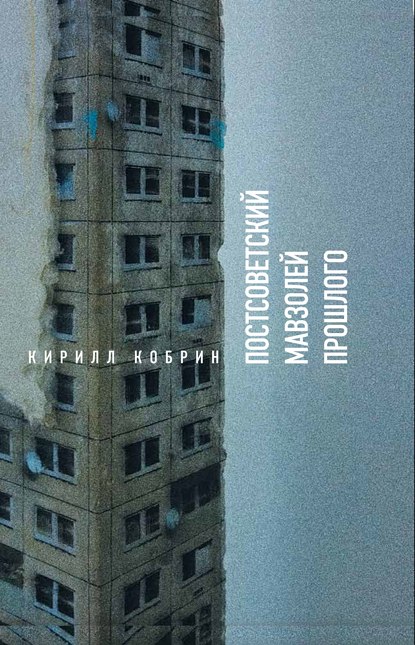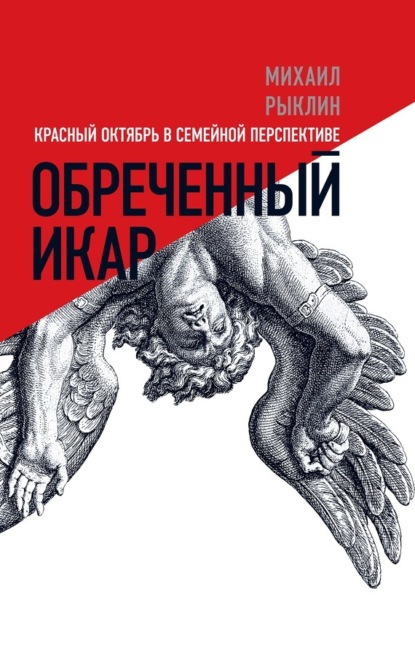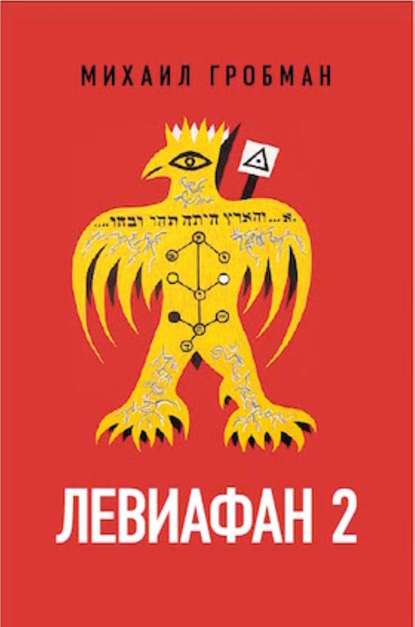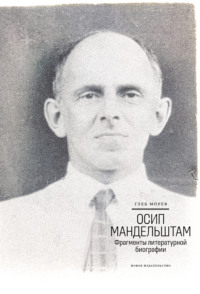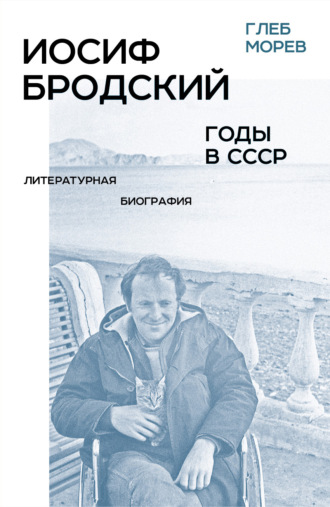
Полная версия
Иосиф Бродский. Годы в СССР. Литературная биография
В позднейшем (март 1964 года) изложении начальника УКГБ по Ленинградской области В. Т. Шумилова ситуация выглядела так:
В Управлении КГБ при СМ СССР по Ленинградской области БРОДСКИЙ признал, что он совместно с ШАХМАТОВЫМ пытался передать рукопись УМАНСКОГО иностранцу и намеревались <так!> захватить самолет для побега за границу. БРОДСКИЙ заявил, что он отказался от намерений изменить Родине, осознал все свои ошибки и заверил, что впредь своим поведением не даст повода для вызова его в органы КГБ.
Учитывая раскаяние БРОДСКОГО и его молодость, было принято решение к уголовной ответственности его не привлекать, но строго предупредить[39].
В распоряжении КГБ оказались, однако, изъятые при обыске у Бродского стихи и, главное, его дневник 1956 года. Эти материалы, не будучи достаточным основанием для уголовного преследования, тем не менее определенно характеризовали Бродского как человека антисоветских взглядов и настроений. Такая информация не могла остаться без последствий, и Бродский это хорошо понимал. Несмотря на быстрое освобождение из-под ареста, месяц спустя, 21 февраля 1962 года, он писал своей польской подруге Зофье Капусцинской о «крупных неприятностях с госбезопасностью» как о «не кончившейся истории»[40].
4
В сложившейся к концу Гражданской войны (1922) ситуации, когда выезд из Советского Союза стал одной из привилегий, доступных исключительно для крайне немногочисленных особо лояльных новому режиму граждан[41], самовольное пересечение границы являлось, с точки зрения советской власти, тяжелейшим политическим (антигосударственным) преступлением и входило в перечень действий, определяемых Уголовным кодексом не просто как нарушение порядка, но как «измена Родине». В изданном для сотрудников госбезопасности секретном «Контрразведывательном словаре» пояснялось:
ИЗМЕНА РОДИНЕ – деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти. <…>
Ответственность за И. Р. наступает при совершении хотя бы одного из перечисленных деяний. К ним относятся:
<…>
г) Бегство за границу – незаконный умышленный переход гражданина СССР с территории Советского Союза на территорию иностранного государства, совершенный с целью проведения враждебной деятельности против СССР. Как И. Р. квалифицируются не только случаи оставления лицом пределов СССР, но и случаи бегства с борта советского военного или иного корабля в открытом море или в территориальных водах иностранного государства[42].
В случае Бродского – Шахматова их потенциальная вина усугублялась намерением осуществить измену Родине с помощью террористического акта – захвата самолета. В своем выборе именно этого способа нарушения одного из сакральных советских табу – самовольного оставления территории СССР – они были не одиноки.
К началу 1962 года, когда властям стало известно о нереализованном плане Шахматова и Бродского угнать самолет, проблема воздушного терроризма в СССР крайне обострилась: после всего трех попыток угона самолетов с целью побега за границу в 1954–1960 годы во второй половине 1961-го произошли сразу два инцидента – 21 июня в Ашхабаде в последнюю минуту был предотвращен угон Ан–2[43], а 10 сентября во время полета над Ереваном был захвачен Як–12. Причем последний кейс типологически был абсолютно идентичен потенциальному кейсу Шахматова – Бродского: четырехместный самолет был захвачен в воздухе тремя молодыми (25–27 лет) пассажирами, мечтавшими бежать из СССР. Один из них был недоучившимся пилотом. В результате летчик получил ножевые ранения, самолет упал под Ереваном, один из угонщиков погиб[44].
В таком контексте, несмотря на наличие в случае Бродского лишь умысла на преступление и на проведенную с ним «профилактическую работу»[45], он, как потенциальный «изменник Родины», неизбежно должен был оказаться – и оказался – под самым пристальным вниманием КГБ, очутившись в категории лиц, по классификации КГБ, «не подвергнутых аресту <…> вследствие недостаточности материалов и подлежащих взятию в оперативную разработку»[46]. На этом этапе Бродский, летом 1960 года попавший в поле зрения госбезопасности как один из авторов неподцензурного поэтического журнала «Синтаксис» и уже тогда прошедший «профилактические мероприятия» (беседу в КГБ)[47], по-видимому, становится объектом «дела агентурной разработки» (с 1964 года получившего наименование «дело оперативной разработки», сокращенно ДОР[48]), с – в терминах КГБ – «окраской „измена Родине“ (в форме бегства за границу)»[49]. Это означало организацию плотной слежки с помощью завербованной КГБ агентуры в среде общения Бродского.
За три дня до осуждения Уманского и Шахматова Ленгорсудом в ленинградской газете «Смена» появилась разоблачающая кружок Уманского «установочная» статья «„Йоги“ у выгребной ямы», написанная по материалам КГБ и связанным с органами журналистом[50]. В ней среди других персонажей из окружения Уманского упоминался и Иосиф Бродский. Это было первое упоминание его имени в печати:
Читывал на сборищах [у Уманского] зловещие стихи Иосиф Бродский, «непризнанный поэт», здоровый парень, сознательно обрекший себя на тунеядство.
Судя по появлению рядом с именем Бродского квалификации «тунеядец» (криминализированной после указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года[51]), к концу весны 1962 года КГБ уже был выработан тактический сценарий по его «нейтрализации» – в полном соответствии с практикой применения к «политическим» «бытовых» статей УК[52]. 11 июля 1962 года заместитель начальника 2-го отдела ленинградского КГБ полковник П. П. Волков составляет документ, сыгравший определяющую роль в дальнейшем развитии «дела» Бродского – служебную справку о нем. Она заканчивается недвусмысленной рекомендацией:
Учитывая антиобщественный характер поведения Бродского, вредное влияние его так называемого «творчества» на молодежь, нежелание заниматься общественно-полезным трудом, считал бы целесообразным через общественность по месту жительства выселить его из Ленинграда как тунеядца[53].
Уже через восемь дней, 19 июля 1962 года, Бродский был «предупрежден о трудоустройстве» отделом милиции Дзержинского района Ленинграда[54]. Такое предупреждение означало фактически неизбежное заведение «дела о тунеядстве». Механизм общественной изоляции «чуждого элемента», предложенный полковником КГБ Петром Петровичем Волковым (не только «архитектором», но и негласным куратором всего дела Бродского в дальнейшем[55]), был запущен.
Последующие события продемонстрируют, что загадочное признание Шахматова и январский обыск и трехдневный арест 1962 года имели ключевое влияние на дальнейшую персональную и литературную судьбу Иосифа Бродского в СССР.
Глава II. «Первый поэт»
1
Знакомство семнадцатилетнего Бродского с бывшим летчиком Олегом Шахматовым произошло в 1957 году в литературном объединении при ленинградской газете «Смена»[56] – как и Бродский, Шахматов писал стихи.
Многочисленные в конце 1950-х годов официальные литературные объединения – получившие известность под именем ЛИТО (усеченный вариант слова «литобъединение») – представляли собой специфический социокультурный феномен послесталинского периода в СССР. Это были существовавшие при печатных изданиях, высших учебных заведениях или иных советских институциях литературные кружки, в которых начинающие авторы стихов и прозы под руководством «профессионалов» (то есть членов Союза писателей СССР) учились «ремеслу» и входили в литературную жизнь. Генетически ЛИТО восходили к раннесоветской «идеологии мастерства», прокламировавшейся Горьким (а затем и Сталиным) в конце 1920-х – 1936 году (когда ее сменили требования «народности» и борьбы с «формализмом») и базировавшейся на утверждении необходимости для молодого поколения советских писателей учиться у «старых мастеров» – писателей с дореволюционным стажем, не всегда удовлетворявших требованиям коммунистической идеологии. В послесталинском СССР эта же идея (пусть и в трансформированном виде: старых мастеров заменили новые советские культурные кадры) стала основой для создания широкой сети кружков литературного мастерства.
По словам историка Петербурга – Ленинграда,
заметным явлением в культурной жизни Ленинграда выглядят многочисленные литературные объединения, появившиеся в конце 1950-х годов <…>. Литературные объединения <…> превратились не только в одну из самых распространенных форм вневузовской литературной учебы, но и в своеобразные молодежные творческие клубы <…>. Литературные объединения предоставляли возможность знакомиться с новыми людьми, общаться, обмениваться информацией.
<…> Особенно яркий расцвет такая форма общественной жизни получила во времена так называемой хрущевской оттепели. Многочисленные литературные, поэтические объединения успешно функционировали при редакциях практически всех крупных городских журналов и газет, при дворцах и домах культуры, в институтах, на заводах и фабриках[57].
По сути речь идет о выстроенной советским государством системе литобъединений, призванной поставить под контроль и формализовать активность так называемой «творческой молодежи» – начинающих авторов, пробующих себя в литературе и/или имеющих амбиции стать профессиональными писателями. Последнее, как известно, в СССР с 1934 года было возможно исключительно в рамках Союза советских писателей СССР (после 1956 года – Союз писателей СССР, далее СП) – институции, созданной по решению Сталина с целью монополизации литературной жизни и создания эффективного механизма идеологического контроля над ней. Лишь становясь членом СП (или аффилированных с ним структур вроде «профессиональной группы» при Литературном фонде СССР) литератор в Советском Союзе мог рассчитывать на регулярную публикацию своих текстов и, соответственно, на возможность жить литературным трудом – получая гонорары за опубликованные вещи. Такая практика фактически узаконивала сложившееся к началу 1930-х годов положение дел, при котором к введенной большевиками сразу после Октябрьского переворота 1917 года политической цензуре добавлялась цензура экономическая – по мере свертывания нэпа, сопровождавшегося сознательным удушением властями возникших в начале 1920-х годов частных (то есть формально независимых от государства) издательств и периодических изданий[58], писатель в СССР лишался возможности профессионализации своего труда, если не декларировал полную политическую (а впоследствии и эстетическую) лояльность советской власти и ее социокультурным установкам. Создание СП и разработка механизма членства в нем формализовали ситуацию, при которой статусом «писателя» (или «поэта») обладал лишь автор, получивший соответствующую санкцию государства в виде кооптации в ряды членов СП. В афористическом виде эта беспрецедентная для русской культуры[59] практика была выражена в ставшем знаменитым обращении судьи Е. А. Савельевой к подсудимому Бродскому на процессе 1964 года: «Кто причислил вас к поэтам?»[60], а также в диалоге между нею и Бродским, где Савельева неоднократно использует определение «так называемые» в отношении стихов Бродского:
Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?
Бродский: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?
Судья: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет[61].
Членство в ЛИТО представляло собой некую промежуточную ступень между литератором с неофициальным статусом (чья легитимность отрицалась государством) и писателем – членом СП. В представлении властей функция ЛИТО едва ли не в первую очередь заключалась в своего рода «просеивании» литературной молодежи, в результате которого благонадежная, «идеологически выдержанная» ее часть получала возможность дозированных публикаций и впоследствии – при благополучном стечении обстоятельств – вступления в СП, а часть, проявившая себя как неготовая к компромиссам, склонная к политическому и эстетическому радикализму и, следовательно, «неблагонадежная» – отсеивалась как «недостойная» звания советского писателя и, по мысли властей, оставалась таким образом вне литературы. Забегая вперед, можем констатировать иллюзорность этих представлений: именно ЛИТО стали во многом той инстанцией, которая де-факто разделяла поток литературной молодежи на будущих «официалов» (то есть авторов, кооптированных в советскую литературную систему) и «неофициалов/неформалов/нелегалов» (будущих создателей неофициальной советской литературы, вкладчиков Самиздата и Тамиздата).
Несмотря на партийную установку на «контроль», практика работы ЛИТО давала широкому кругу пишущих молодых людей уникальную в советских реалиях возможность относительно свободной творческой реализации в рамках признанной государством, но не слишком тщательно (в силу массовости участников) контролируемой им институции.
Лито и группы, с руководителями или без них, существовали во многих вузах города. Главным образом, в технических: в Политехническом, Технологическом, Электротехническом… Дело в том, что в 1951–1953-м, в последние годы сталинского режима, в технических вузах идеологическое давление было чуть меньше, и туда шли, сознательно или инстинктивно, те, кто искал хотя бы минимума нерабства и недогматизма, в том числе – парадокс! – люди гуманитарного склада ума[62].
В условиях недоступности для абсолютного большинства молодых авторов печатного станка особую ценность приобретала возможность «легализации» своих текстов путем публичного чтения – именно такие чтения, сопровождаемые критическим обсуждением товарищей, были основной формой работы ЛИТО. Часто из пределов собственно ЛИТО чтения выносились на более крупные общедоступные площадки – например, в домах культуры или больших институтских аудиториях.
Происходили общегородские вечера студенческой поэзии. В актовом зале Политехнического института. На первом таком вечере в ноябре 1954-го в течение трех часов больше тысячи студентов – и политехников и гостей – слушали нас, выступавших. Читали человек тридцать. Через год был второй такой вечер[63].
Один из участников ленинградских ЛИТО 1950–1960-х годов Эдуард Шнейдерман вспоминал:
И тогда и в дальнейшем, легализация написанного происходила почти исключительно через чтения – квартирные, в институтах и студенческих общежитиях, в поэтических кафе и НИИ. <…> чтения были для нас едва ли не единственной возможностью познакомить многочисленных в ту пору любителей поэзии, жаждавших свежего поэтического слова, со своей работой. Ибо печатали – эпизодически, жалкие крохи <…>[64].
Именно как участник такого рода публичных поэтических чтений получил первую литературную известность юный Иосиф Бродский.
2
С. С. Шульц вспоминает о выступлении Бродского в феврале 1961 года на вечере молодых поэтов во Всесоюзном нефтяном геологоразведочном институте (ВНИГРИ) в Ленинграде:
Выступавших было довольно много – человек 15. И только во второй половине вечера ведущий объявил: «Иосиф Бродский!» Зал сразу зашумел, и стало ясно, что этого поэта знают и его выступления ждут. <…> Когда он кончил – мгновенное молчание, а потом – шквал аплодисментов. Крики с мест, показывавшие, что стихи его уже хорошо знали:
– «Одиночество»!
– «Элегию»!
– «Пилигримов»!
– «Пилигримов»![65]
Не будет преувеличением сказать, что литературная известность двадцатилетнего Бродского носила во многом скандальный характер. Так, за год до чтения во ВНИГРИ, 11 февраля 1960 года грандиозным скандалом закончилось его выступление на «турнире поэтов» в Доме культуры им. М. Горького, организованном ЛИТО «Нарвская застава». Бродский, не согласовав заранее с устроителями вечера, прочитал стихотворение «Еврейское кладбище около Ленинграда» (1958). Это вызвало протест присутствовавшего в зале поэта Глеба Семенова, поддержанного частью аудитории. В ответ, по воспоминаниям Я. А. Гордина, Бродский демонстративно прочитал «Стихи под эпиграфом» (1958; эпиграф гласил: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»)[66]. В результате возглавляемое поэтессой Натальей Грудининой жюри вынуждено было «выступление Иосифа осудить и объявить его как бы не имевшим места»[67]. В марте скандал вышел на уровень городского комитета партии. В центре внимания партийного руководства были, разумеется, не конкретные стихи Бродского, прочитанные на вечере, а созданный им прецедент бесконтрольного публичного выступления, сводивший на нет цензорскую функцию ЛИТО.
Вечер был подготовлен очень плохо. <…> [Читались] антисоветские произведения. Эти произведения не читались в литобъединении, и никто из руководителей о них не знал. <…> Бюро Горкома осудило такую практику работы с молодыми[68].
27 мая 1960 года эти же упреки в адрес организаторов вечера повторил на закрытом партсобрании секретарь партийной организации ЛО СП РСФСР А. Н. Чепуров:
В отдельных случаях читались и пошлые, и прямо идейно сомнительные произведения! Здесь, конечно, виноваты и устроители – библиотека Дворца культуры и коммунисты из нашей комиссии по работе с молодыми. <…> По этому вопросу состоялось специальное решение горкома партии, которое обязывает Союз писателей усилить руководство кружками. Партийное бюро вместе с горкомом комсомола провело специальное совещание, посвященное состоянию работы в этих низовых литературных коллективах[69].
Последующие попытки Бродского продемонстрировать свою поэтическую работу уже непосредственно на площадке Союза писателей также вели к конфликтам – 10 мая 1962 года на заседании секции поэзии ЛО СП РСФСР он читает только что законченную поэму «Зофья»; обсуждение текста вылилось в скандал, причем Бродский, по воспоминаниям одного из функционеров СП поэта Николая Брауна, «демонстративно ушел с секции, уводя за собой целый хвост каких-то девиц и парней – своих друзей; иначе говоря, он отказался выслушать все то, что мы хотели сказать ему»[70].
При этом, что существенно, Бродский, часто выступавший на площадках различных литературных объединений, формально не принадлежал ни к одному из них и, таким образом, с точки зрения партийного начальства, оставался «абсолютно бесконтрольным»[71]. С одной стороны, он пользовался предоставлявшимися членам ЛИТО возможностями «опубличивания» своих текстов, но с другой – демонстративно пренебрегал гласными и негласными правилами членства в ЛИТО, следование которым и давало кружковцам в перспективе надежду на легитимацию литературной деятельности в рамках СП, – прежде всего, отказываясь признавать за советскими литературными институциями право быть «обучающей» письму инстанцией. Эта специфическая репутация молодого Бродского, не вписывавшегося в устоявшийся контекст советской литературной жизни, зафиксирована в воспоминаниях А. Г. Наймана:
И вот приходит 18-летний юноша, мальчишка, про которого уже известно, что он громок, что он там выступал, сям выступал, оттуда его выгнали, здесь не знали, что с ним делать[72].
Оперативные данные, получаемые КГБ (очевидно, в рамках заведенного в отношении Бродского после ареста в январе 1962 года «дела оперативной разработки») – то есть донесения осведомителей КГБ из окружения Бродского – говорили о принципиальном характере занимаемой им позиции. В сочетании со все возрастающей известностью среди литературной молодежи это, с точки зрения органов безопасности, становилось неприемлемым – подтверждая выводы о политической неблагонадежности Бродского, сделанные КГБ на основании полученных во время обыска 29 января 1962 года материалов (стихов и дневника Бродского 1956 года). Так, в справке начальника ленинградского КГБ В. Т. Шумилова от 7 марта 1964 года при рассказе о поведении Бродского после ареста в начале 1962 года особо отмечалось, что
БРОДСКИЙ еще активнее стал распространять свои враждебные стихи среди молодежи. Среди определенной части молодежи о нем говорят как о «кумире» подпольной литературы. В сентябре 1962 г. БРОДСКИЙ заявил (данные оперативные): «…Мне не нужно признание партийных ослов, у меня есть 50–60 друзей, которым нужны мои стихи»[73].
Характерно, что именно отказ от признания патронирующей функции ЛИТО (как официальной советской институции) ставился Бродскому в вину в написанном под диктовку КГБ фельетоне «Окололитературный трутень», публикация которого в газете «Вечерний Ленинград» 29 ноября 1963 года сигнализировала о старте завершающего этапа операции КГБ по нейтрализации Бродского, в общих чертах продуманной, как мы отмечали выше, еще весной 1962 года:
Бродский посещал литературное объединение начинающих литераторов, занимающихся во Дворце культуры имени Первой пятилетки. Но стихотворец в вельветовых штанах решил, что занятия в литературном объединении не для его широкой натуры. Он даже стал внушать пишущей молодежи, что учеба в таком объединении сковывает-де творчество, а посему он, Иосиф Бродский, будет карабкаться на Парнас единолично[74].
Ключевым элементом этой риторической конструкции, восстанавливающим актуальный для властей идеологический и политический контексты преследования Бродского, является (многократно повторенная в фельетоне) метафора «карабкаться на Парнас». Это словосочетание отсылало к «установочной» статье газеты «Известия» «Бездельники карабкаются на Парнас», опубликованной 2 сентября 1960 года. Написанная по заданию КГБ статья заведующего литературным отделом «Известий» Ю. Д. Иващенко ставила целью дискредитацию издателя московского самиздатского журнала поэзии «Синтаксис» Александра Гинзбурга, к моменту выхода статьи арестованного и обвиненного в антисоветской деятельности, заключавшейся, по сути, в нарушении государственной монополии на публикацию. По меткому замечанию А. К. Жолковского, «недопустимыми были не сами тексты [„Синтаксиса“], а процесс и способ их издания. Власть над словом, которую монополистическая, тоталитарная власть просто не могла позволить никому другому»[75]. Знаменательным образом редакторская деятельность Гинзбурга и творчество публикуемых им авторов, охарактеризованные как «бездельничанье», противопоставлялись в статье «настоящему» творческому «труду» (разумеется, в рамках официального советского искусства). Термин «тунеядство» в статье не употреблялся, но можно констатировать, что в целом она находится в рамках идеологии, вскоре породившей такую юридическую новеллу, как указ от 4 мая 1961 года.
Бродский в статье Иващенко не упоминался. Однако в КГБ были прекрасно осведомлены о его участии в «нелегальном журнале» Гинзбурга: в третьем номере «Синтаксиса», вышедшем в апреле 1960 года и посвященном ленинградской поэзии, были опубликованы пять стихотворений Бродского[76]. По воспоминаниям Н. Е. Горбаневской, Бродский впоследствии называл Гинзбурга «мой первый издатель»[77] – публикация в «Синтаксисе», действительно, была первой «институциональной» публикацией Бродского, «с гордостью» демонстрировавшего в Ленинграде машинописный экземпляр журнала друзьям[78].
С «Синтаксисом» связана, однако, не только первая публикация Бродского, но и его первый контакт с органами госбезопасности. После ареста Гинзбурга 14 июля 1960 года Бродский, как и многие другие авторы журнала, был вызван в КГБ «для беседы». По словам начальника ленинградского КГБ Шумилова, «во время этой беседы Бродский вел себя вызывающе. Он был предупрежден, что если не изменит своего поведения, то к нему будут приняты более строгие меры»[79]. Отсылка к истории с «Синтаксисом» в ленинградском фельетоне 1963 года, вкупе с информацией в справке Шумилова о контактах Бродского с «Синтаксисом» и «с группой московской молодежи, издававшей нелегальный литературный сборник „Феникс“»[80], показывает, что этот (идеологически связанный с кампанией по «борьбе с тунеядством») контекст не утратил актуальности для КГБ, усугубляя и без того в высшей степени проблемное положение Бродского после истории с несостоявшимся угоном самолета и, вероятно, изначально определяя направление, выбранное госбезопасностью для удара по поэту.
Отказ Бродского считаться с официально утвержденной монополией СП на литературное признание базировался, с одной стороны, на его бунтарском духе представителя «поколения 1956 года»:
Это поколение, для которого первым криком жизни было венгерское восстание. Боль, шок, горе, стыд за собственное бессилие – не знаю, как назвать этот комплекс чувств, которые тогда мы испытали и с которых началась наша сознательная жизнь. Ничего подобного мы уже больше не испытывали, даже в августе 1968-го, —
писал Бродский в 1972 году[81].
Травма от жестокого подавления осенью 1956 года советскими войсками венгерского восстания против коммунистического правительства стала одним из решающих аргументов в решении Бродского «не принимать» окружающий социум: