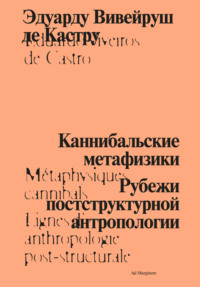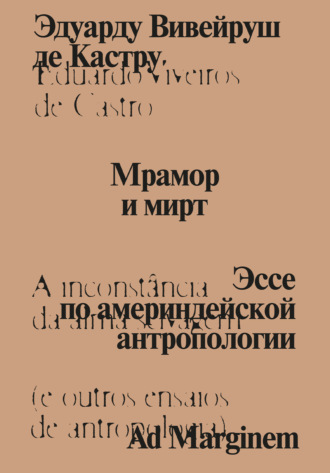
Полная версия
Мрамор и мирт. Эссе по америндейской антропологии
Пищевые ограничения у явалапити вращаются вокруг понятия ahí: принимаемые в период отшельничества эметики несовместимы с этим запахом, поэтому отшельники должны держаться подальше от рыбы, секса и женщин в период менструации. Последние, в свою очередь, не едят рыбу, чтобы избежать вышеупомянутой дополнительности: поскольку они уже «с кровью», избыток ahí вызвал бы свертывание субстанций в животе. Больные и их семьи также воздерживаются от употребления рыбы; некоторые люди объясняли мне это тем, что у рыб, особенно крупных, есть стрелы, а болезнь вызывается стрелами, выпущенными духами или колдунами; другие говорили, что в рыбе много ahí.
Но откуда берется связь рыбы и сексуальности? [44] Мне кажется, что дело не просто в органолептике, а в том, что этот вопрос является концептуальным. Рыба, скорее всего, является главной пищей животного происхождения, и как таковая она дополняет маниок – прототип растительной пищи, именно маниок в виде лепешек первым едят отшельники и больные – и противостоит ему. Говоря о противопоставлении живых и мертвых, мои собеседники говорили, что «рыба души – это сверчок». Конечно, это далеко не столь питательно, как тукунарé [цихла. – Примеч. пер.] или брикон, но душам в самый раз, ведь у них «тоненькая кровь», если вообще какая-то есть, и сексом они не занимаются.
Напомним также, что несъедобные животные (apapalutа́pa-mína и большинство птиц) имеют такой же запах, как сексуально активные люди, ha, при том что запах рыбы – это запах сексуальности. Несмотря на обонятельное сходство рыбы, семени и крови, отношения между ними неравны: употребление в пищу рыбы перекрывает свободный выход крови, заставляя ее свернуться в животе – точно так же, как сперма остается в животе женщины, «перекрывая» путь крови и образовывая плод. Но, в свою очередь, мальчики в период отшельничества должны удерживать свое семя.
Антипища«Антонимом» рыбы, то есть пищей отшельников, являются рвотные травы, то есть эметики – ataya. Культура народов Шингу глубоко развила символику рвоты как антипищеварения. Рвотные травы применяются на каждом этапе ритуального перехода, особенно во время подросткового отшельничества у мальчиков; считается, что они помогают создать взрослое тело воина. Кроме того, некоторые люди в разговоре со мной утверждали, что ataya своим действием производят семя. Рвотные травы (помимо шрамирования) также используются для кровопускания живота отца после родов жены [45]. Так, рыба не должна входить, кровь должна выходить, семя не должно выходить. Ataya укрепляют эту динамику: производят семя, удаляют кровь, исключают рыбу. Если последняя – главная пища и символ сексуальности, то ataya – антипища, формирующая тело в сфере, альтернативной сексуальности: они являются метафорой семени. Ataya укрепляют тело, меняют его («изменение тела» – цель инициатического отшельничества), огрубляют его – в буквальном смысле воплощают плоть. Стоит отметить, что растительные смолы (и мед) называются yа́tshi «семя», а употребляется в этом случае ataya yа́tshi, то есть смола, или сперма ataya.
Ataya wököti – антропоморфный дух, покровитель ataya, воплощение идеальных качеств воина, ненавидит сексуальность и кровь до такой степени, что мужчины должны прервать терапевтическое шрамирование на время принятия рвотных трав. Рвотные травы очищают и защищают тело; незадолго до праздника, на котором будет схватка, их применяют, чтобы «запах старой рыбы», которой угощают устроители, не ослабил воина; ataya употребляют перед началом активной половой жизни, во время подросткового отшельничества, а также при возобновлении активной половой жизни; ученики шаманов употребляют их перед возвращением к нормальной жизни.
Явалапити знают множество видов эметиков, каждый из которых применяется для определенных целей, в определенное время года, для определенного пола и т. д. Сильнейший (или kawikа́ri – опасный) из них – это túti (мукуна, растение семейства бобовых); его применяют в начале подросткового отшельничества у мальчиков, а его применение может нанести непоправимый ущерб здоровью. Женщины тоже пользуются рвотными травами, чтобы сформировать у себя взрослое тело или прервать поток менструационной крови; мужчины считают эти травы слабыми и незначительными. Рвотные травы для подросткового отшельничества приписываются Грифу в соответствии с мифологической связью между помещением, в котором пребывает отшельник, и небом. Запах рвотных трав называется hipúka – к этой категории также относится запах ядовитого сока маниока. Судя по всему, существует связь между ataya и ядом: первые могут быть ослабленной версией второго. Так, тимбо́ (tyúma), лиана, сок которой используется для отравления птиц, собирается отцом ребенка, рожденного вне брака, с целью убить «червя», живущего в животе родителя. Отсюда корреляция: (законный родитель: кровь в животе: эметик):: (незаконный родитель: червь в животе: яд для рыбы). Это к тому же косвенно подтверждает связь между рыбой, сексуальностью и кровью.
В этой системе участвуют еще две субстанции, находящиеся на периферии пищевого режима: перец и табак. Они оба – kahiúti, болезненные или обжигающие; оба – неотъемлемый элемент диеты шаманов. Курят только взрослые мужчины; табак – любимая субстанция духов, которым нравится его запах örö (он, таким образом, контрастирует с кровью и генитальными выделениями, которые духи ненавидят). Однако этот запах непозволителен для воина, поскольку ослабляет его; молодежь не курит, а ataya wököti ненавидит запах табака. Так, если рвотное – отличительный знак воина, то табак и перец – отличительные знаки шамана. Табак – непревзойденный инструмент преображения; демиург Квамути создал первых людей, раздувая дым над дровами; Солнце воскресило Луну окуриванием. В мифах встречается огромное количество эпизодов, когда табак оживляет, залечивает раны и восстанавливает силы. Флейты apapа́lu – изначально водные духи – были захвачены при помощи перца и – особенно – табака.
В целом табак можно назвать эквивалентом и духовным дополнением спермы. Если последняя производит людей, то первый воссоздает и лечит их, поскольку является основным орудием шамана. И если подростковое отшельничество связано с ataya – один из эпитетов отшельника звучит как ataya ötsöri «принимающий рвотные травы», – то лечение болезней и инициация шамана, когда духи выбирают человека через болезнь, связаны с табаком. Ataya и aíri (табак) – антипища или парапища, они занимают избыточное пространство и время социокосмического перехода; тем самым они противостоят рыбе, особенно жареной – сверхпище, непосредственно связанной с основными элементами человеческой сексуальности [46].
Таким образом, можно установить корреляцию между этими тремя субстанциями, играющими центральную роль в различных аспектах производства тела: семя для природы – то же самое, что рвотные травы для культуры и табак для сверхъестественного аспекта. Из этого можно сделать вывод, что пищевую систему явалапити, как и другие аспекты их космологии, нельзя свести к дуализму природа – культура. Начиная с рыбы как сверхдетерминированного символа, аналогичного крови, но имеющего фаллические черты, увеличивающего живот, сворачивающего кровь и пускающего духовные стрелы [47], мы пришли к таким парапищевым субстанциям, как рвотные травы и табак, и к таким телесным субстанциям, как кровь и семя.
ВоздержаниеПищевые ограничения опираются на два основных понятия: tiñokötí „пост“ и kanupa; последнее, возможно, соответствует «рейме» (reima) амазонских кабо́клу[48], обозначая негативное влияние определенных субстанций на людей в переходном состоянии, особенно детей. Оба этих понятия не ограничиваются питанием, но охватывают и другие виды деятельности.
Воздержание tiñokötí налагается на: подростков в начале инициатического отшельничества; родителей (обоих полов) после родов; начинающих шаманов; мальчиков, которые прокололи уши в церемонии Pihikа́; больных, особенно тех, которых поразили невидимые стрелы духов или колдунов; женщин во время менструации. Во всех этих случаях tiñokötí является частью более широкого списка ограничений, в который входит ограничение подвижности (человек становится patakwarа́ta «неподвижно лежащим в гамаке») и более или менее строгое исчезновение из социума. Что касается питания, tiñokötí может представлять собой и абсолютный пост, и запрет определенной пищи – почти всегда рыбы, особенно крупной. Понятие воздержания применяется также к запрету на сексуальные отношения, который сопутствует пищевым ограничениям во всех перечисленных случаях.
Воздержание определяет группу людей (в идеале четко очерченную), связанных телесными узами: это tiñökölaw «те, кто держит пост», те, ради кого я воздерживаюсь. Человек может воздерживаться ради себя, а может и ради других. Родители проходящего инициацию подростка в начале периода его отшельничества не могут иметь сексуальной связи (о них говорится, что они «делают сына»; то же самое можно сказать и про зачатие, но теперь секс как раз под запретом); то же самое касается родителей, особенно отца (yumamukú wököti «хозяина ребенка»), в период после родов – ему следует воздерживаться от секса и рыбы, причем в первую очередь ради самого себя, чтобы кровь покинула его живот, и он вновь обрел силы, а потом уже ради ребенка; шаман, проводящий обряд инициации другого шамана, тоже воздерживается от секса и рыбы, поскольку является отцом инициируемого; наконец, родители, братья и дети-rúru больного (то есть связанные с ним близкими и дозволенными обществом телесными узами) должны воздерживаться от рыбы, чтобы не причинять боли родственнику.
Итак, tiñokötí определяет межтелесные связи между родственниками, выражая непрерывность внутри общины как субстанции [49]. Примечательно, что это единство выражается через серию запретов и что она вырастает из сексуальности, поскольку межтелесность вытекает из родства (в случае шамана ведущий обряд инициации считается его «отцом»). Практика tiñokö, судя по всему, связана с идеей о том, что людей создала какая-то группа; этот обычай подчеркивает единство семьи и родителей. Напротив группы или, точнее, категории tiñökölaw находятся iwíkalaw «те, кого я уважаю», то есть те, к кому я испытываю kawíka: свойственники. Tiñökölaw, или консубстанциальные, определяются совместным воздержанием; iwíkalaw, или свойственники, – это те, чьего имени я не называю. Первых объединяют отношения единства и непрерывности субстанции; вторые находятся в отношениях взаимности и прерывности субстанции. В определенном смысле можно сказать, что iwíkalaw – это особый случай более широкой категории, противопоставленный воздерживающейся группе: община деревни, связанная с tiñökölaw через пищевое распределение при болезни, когда субстанционная группа больного воздерживается и впоследствии производит пищу, передаваемую общине (сама группа эту пищу никогда не ест) во время праздника в честь духа, вызвавшего болезнь [50].
Делать tiñökö ради другого человека – значит подчеркивать отношения консубстанциальности; не произносить имени другого человека – значит подчеркивать отношения свойства́. Не есть или не говорить: комплементарные запреты выражают комплементарные отношения [51].
Легко заметить, что воздержание требуется в тех ситуациях, когда человек находится в контакте с антисоциальными или парасоциальными силами, то есть в моменты кризиса или перехода. Воздержание – способ выразить и контролировать эти кризисы. Любая коммуникация между космическими сферами сопровождается tiñökö. Несоблюдение пищевого или сексуального запрета может привести к физическому недомоганию; однако в случае поста ради самого себя оно превращает человека в ipuñöñöri-malú – человека второго сорта и возможного колдуна. Колдун – этот тот, кто, среди прочего, не соблюдает пищевых запретов, неспособен контролировать свои отношения с внесоциальным миром [52]. В противоположность колдунам и плохим людям, amulawnaw (знать) и ipuñöñöri-mína — люди щедрые, соблюдающие ограничения tiñökötí. Как мы видели, щедрость и воздержание – две стороны одной медали. Tiñökötí, таким образом, помогает в определении этоса явалапити; он удваивает kawíka, уважение и щедрость [53]. Tiñökö ради консубстанциальных родственников или ради себя самого говорит о щедрости и готовности раздавать еду свойственникам и общине в широком смысле слова.
Практика tiñökö свидетельствует о наличии неразрывной связи между телесными и общественными состояниями: изменения в теле и изменения тела всегда сопровождаются сменой социального статуса. В этом смысле избегание употребления apapalutа́pa-mína можно рассматривать как обобщенный вид tiñökö, определяющий собственно социально и телесно «свое» человечество – людей Шингу.
Человек во время любого пищевого воздержания, как правило, употребляет безвкусную пищу; сладкую пищу (pujúa), такую как мед или каша nukа́ya, есть нельзя, соль тоже под запретом. Категорически запрещена пища, имеющая ahí. Первая рыба после поста – маленькая и нежирная, из тех, где меньше всего ahí. Это своего рода испытание, часть важной для культуры Шингу этики очищения и аскезы. Tiñökö сопутствуют эметики – основное орудие очищения; они тоже употребляются без усилителей вкуса (iñöÿö «противные, безвкусные») и не могут сочетаться с приправленной пищей.
Особый класс видов пищи и практик, которых следует избегать во время воздержания, называется kanupa. Вещи-kanupa опасны для маленьких детей, больных и всех людей в переходном состоянии. «Nukanupaa pа́», «Я kanupa», – объявляет человек, который только что имел сексуальную связь или у жены которого менструация; он не может прийти к тому, кто употребляет ataya (подростку-отшельнику), к начинающему шаману, к тяжелобольному. Консубстанциальной группе больного человека нельзя есть некоторые крупные виды рыб и даже определенные виды, как, например, скатов и паку, поскольку они kanupa. Некоторые животные «очень kanupa», как, например, бритвоклювый кракс или тинаму-пустынник. Животные, которых называют umañí (см. следующий подраздел), в высшей степени kanupa. Но этот термин описывает также некоторые действия, которые запрещается совершать родителям маленьких детей: убивать ягуаров, собирать перья тукана, делать гребни (от этого сжимается живот ребенка) и ожерелья. В некоторых случаях проводится аналогия между действием и телесной реакцией детей; в других случаях речь идет о животных umañí или о неизвестных мне причинах [54]. Некоторые мотивы музыки флейт apapа́lu называют kanupa; детям нельзя их слышать.
ПроцессыГоворя о разновидностях беседы в обществе явалапити (так называемых речевых жанрах), мои собеседники последовательно подчеркивали различие между нарративным модусом awnatí — я бы перевел это как «миф» – и inutayа́, что означает «история» и/или «быль» [55]. Персонажи и события, происходящие в рассказах awnatí, как я заметил, отражают образцы и причины того, что должно произойти в настоящем.
Большинство антропоморфных мифических персонажей, как демиург Квамути или близнецы Солнце и Луна, называют awapúka «наши первые/те, кто начал нас» (основа púk- «прорастать, расти»). В свою очередь, предки, о которых идет речь в inutayа́, классифицируются как shikúñalaw «древние» или tshawakа́law «вчерашние». Это «вчера» указывает на обязательную связь с сегодняшним днем, эта связь контрастирует с природными различиями, отделяющими нас от существ, встречающихся в awnatí, от «наших первых», awapúka. Время, в котором жили – или, точнее, живут – awapúka, характеризуется как «другое время» (kumã iwа́ku): оно «другое», потому что отличается от актуального по своей природе.
Существа umañíЛучше различать свойства мифического времени помогает разделение между awapúka и существами, называемыми umañí — это слово мне перевели как «творение». Оно характеризует всё то, что было создано awapúka, то есть обозначает прототипы актуальных существ. Слово umañí, скорее всего, происходит от корня umа́- «делать, производить»; тем не менее его не следует путать с inumakinа́ – причастием от этого глагола, обозначающим сделанное руками человека; как мне сказали, umañí – это «inumakinа́, сделанное awapúka».
Мне стоило большого труда получить четкое и ограниченное определение понятия umañí; мои собеседники перечисляли подпадающих под него существ: «люди, звери, вода, земля, улитки (из раковин которых делают ожерелья), которых Такума́н нашел (в таком-то месте)…» В ряде случаев некоторых животных относили к umañí, что делало их непригодными в пищу в конкретной ситуации: например, тинаму-пустынника нельзя есть отцам новорожденных детей, а тапира, ягуара, белобородого пекари или пампасного оленя нельзя есть никому из обитателей Шингу. Как правило, эта классификация охватывает животных, которые играют важную роль в мифологии; при этом многие «вещи» (yakawakа́) тоже относятся к umañí, например, используемые в ожерельях гладкие диабазовые камешки или отличительные атрибуты различных этнических групп, как то: глиняная посуда, луки из определенного вида дерева, рыбацкие ловушки, ружье белых людей и т. д. [56] Umañí – это качество, которое легитимирует или повышает онтологический статус объекта: некоторые аксессуары, например, приносящие богатый улов камни в форме рыбы или осколки керамики, якобы оставленные исчезнувшим племенем, тоже umañí, потому что они «были всегда» и не являются рукотворными. Но прежде всего и прежде всех umañí – это apapalutа́pa. Или, точнее, всё то, что является umañí, в той или иной степени является «духом».
Об awapúka говорят, что они умирают (или умерли); в свою очередь, существа umañí бессмертны, makamа́ri. Так, мне часто говорили, что Солнце, Луна и Квамути – прежде всего umañí, а не awapúka, поскольку они еще живут у истоков человечества – в перевале Морена́. Я считаю umañí более инклюзивным понятием по сравнению с awapúka, так как оно не требует эксплицитного указания создателя.
Когда я спрашивал местных жителей, какие из животных являются umañí, чаще всего мне приводили в качестве примера животных, которых некоторые из явалапити видели в зоопарках Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Например, когда я спрашивал, является ли ныне живущий кайман тем самым мифическим животным, от которого родилось дерево пеки, мне отвечали: «Тот, который живет здесь, нет. А yakа́-kumã, который живет в Рио, да» (имелся в виду африканский крокодил или – скорее – черный кайман). Животные umañí были слишком свирепы, поэтому Солнце и Луна, формируя современный облик мира Шингу, «прогнали» их. Эти животные отправились «в Африку»; «остался только ягуар», более непосредственно связанный с мифическим миром. Как видно, пространственная дистанция отражает временную; в Рио живет то, что жило в мифах.
Другая основополагающая характеристика мифических животных заключается в том, что они имели или имеют человеческий облик, но ведут себя как животные – либо, напротив, ведут себя как люди, но облик имеют звериный. Первый кайман – человек в «одежде» (inа́) рептилии; Ягуар, отец Близнецов, имеет вид большой кошки, но ведет парасоциальный образ жизни.
Однако, когда я однажды спросил, относятся ли люди к umañí, мне ответили, что «мы», присутствующие, не относимся, а вот «люди» да [57]… Если я правильно понял, речь идет о том, что человек как вид, как существо – umañí, но не конкретные люди; umañí – это putа́ka ipúka, предки-образцы людей Шингу, созданные Солнцем и Луной. Поэтому, если о животном говорят, что оно umañí, имеется в виду вид, а не конкретная особь: именно вид является umañí, и как таковой его представляет мифическое существо, которое в крайнем случае может актуально присутствовать лишь за пределами пространства обитателей Шингу.
Поэтому umañí, скорее всего, указывает на мифическую сущность; awnatí – это рассказ о вещах umañí, об образцах и моделях; именно это отличает этот вид речи от inutayа́. Татиньова́лу, вождь «первой деревни явалапити», может показаться антропологу мифическим персонажем, но он не упоминается в awnatí, он не yawalapíti ipúka, он простой человек. Реалии umañí определяют скорее не образцы, а онтологическое деление на первобытные архетипы, и то, что существует сегодня – слабые подражания источнику. Здесь не просто идеализируется прошлое, здесь действительно идет контрэманация актуальных состояний в виде идеальных прототипов. Платонизм? Этот ярлык так и просится к этому понятию, поскольку вещи действительно umañí, в смысле идеи или концепции.
Одна из основных тем мифологии народов Шингу – это отличие между первобытными образцами и их последующими актуализациями. Так, плоды первозданного дерева пеки были крупнее, у них было много мякоти, а косточки были меньше; первые флейты apapа́lu были водными духами, но тот, кто открыл их, спрятал духов, сделав для подражания им деревянные дудочки, чей голос никогда не сравнится с первозданным (Villas Boas 1972: 101 и далее; Agostinho 1974b: M26). Первые люди были сделаны из дерева демиургом Квамути, который оживил их при помощи стволов того же дерева; поскольку человек не может этого сделать, смерть становится поводом для церемонии (Ицати́ – Itsatí, у камаюра квари́п или квару́п – Kwaryp или Qauarup), во время которой стволы дерева используются как образец или символ покойного. Близнецы Солнце и Луна являются не только создателями индейцев бассейна Шингу, но и их образцом: большинство их приключений строится на мотиве первого установления практик, принятых обитателями Шингу: борьбы, шрамирования, шаманизма.
Когда я спрашивал своих собеседников, почему они это делают (занимаются шрамированием, борются, соблюдают пост), они никогда не давали ожидаемый, казалось бы, ответ: «Это наша традиция, мы всегда так делали». Вместо этого они или принимались рассказывать о последствиях: мы не едим рыбу после рождения сына, потому что иначе живот распухнет и кровь не будет выходить и т. д.; или, еще чаще, напоминали: «Так научило нас Солнце, оно делало это первым». Также иногда они рассказывали фрагменты мифа о сотворении того или иного обычая. Хотя я не могу описать, в какой «естественной» ситуации в качестве объяснения может быть использован миф, по крайней мере в разговоре с антропологом, явалапити очень нравилось пояснять свое современное поведение через мифологические события. Мой учитель Пару́ так критиковал молодого куйкуро, имевшего сексуальную связь с тещей: «Этот парень становится похож на Вараку́ни». Впоследствии я узнал, что Варакуни – это имя человека, который первым вступил в инцестуозную связь (правда, не с тещей, а с сестрой; см.: Schultz 1965–66: 76 и далее).
Таким образом, миф – это не только архив первобытных событий, навсегда утерянных на заре времен; миф постоянно направляет и оправдывает настоящее. География данного региона усеяна местами, где имели место мифические события; церемонии объясняются инициативой мифических существ («Первым праздник устроило Солнце»); мир населен бессмертными существами, живущими с начала времен; создатели человечества так или иначе всё еще живы в Морена́. На самом деле мифическое время – это не только и не столько точка в хронологии. Совершенный мир мифа склоняется, так сказать, к прошедшему несовершенному или даже к своего рода аористу [58]. Существа umañí всегда есть, они живут в полувоплощенном виде, в виде категорий; действия людей подражают действиям образцов. Миф существует как временна́я и прежде всего понятийная отсылка.
Печальное слово и радостное делоЦеремонии – главный способ общения с мифическим миром. В верховьях Шингу ритуалы делятся на два основных вида: 1) праздники в честь духа – как правило, того, который вызвал болезнь у «хозяина» церемонии; они не выходят за рамки деревни; активные участники ритуала – танцоры, певцы и музыканты – представляют этот дух визуально или музыкально; 2) церемонии с участием нескольких деревень: сюда относятся праздники в честь умерших аристократов (ицати́ [Itsatí] или амакака́ти [Amakakа́ti]), дуэль на дротиках (ирала́ка [Iralа́ka]) и праздник прокалывания ушей (пихика́ [Pihikа́]), которые не связаны с каким-либо духом и не имеют конкретного хозяина. Этот второй вид церемоний был учрежден близнецами Солнцем и Луной; согласно мифу, участвующие в нем деревни населены животными, которые живут в различных средах: земные животные против птиц, рыбы против земных животных. Первый тип церемоний включает в себя песни и танцы, которым научился человек, контактирующий со сверхъестественным миром: один человек посетил подводный мир и увидел церемонию Тапанавана́н (Tapanawanã), другой поймал духов или флейты апапа́лу и т. д. В обоих случаях ритуал повторяет действия, описанные в мифе; миф фактически становится главным объяснением ритуальных действий, чей символизм, кажется, не имеет другого толкования.