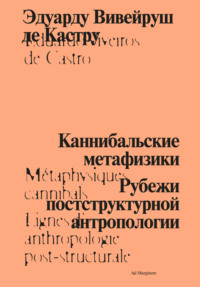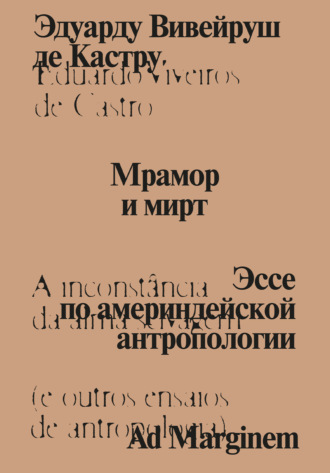
Полная версия
Мрамор и мирт. Эссе по америндейской антропологии
Тем временем, обратившись к мифу, мы увидим, что ритуал – это не просто его повторение или инсценировка. На самом деле ритуал посвящен невозможности точного повторения. «Теперь будет только праздник», – сказал демиург, когда ему не удалось превратить стволы деревьев в воскрешенных людей; так человек стал смертным. То, что мы назвали бы ритуалом или церемонией, явалапити называют jumualhí [жумуальи́]; мои собеседники переводили его как «праздник» или, в более широком смысле, как «радость». Мифическая речь авнати́, с другой стороны, делится на две разновидности: рассказы kihа́ri [киха́ри], то есть «ароматные», иначе говоря, пикантные или скабрезные (как правило, истории о сексуальных похождениях), рассказываемые для развлечения; и великие мифы о сотворении, которые называют katupa [катýпа], то есть «грустными» [59]. Таким образом, миф – это грусть, а ритуал – радость. Что это может означать? Можно предположить, что мифический нарратив открыто или подспудно подразумевает различие между образцом и низшим подражанием, между духом и его схематическим представлением, между событием и воспоминанием о нем. Таким образом, ритуал превращает в радость грусть, вызванную осознанием этого различия, приближая события мифа к современности. Но при этом различие между праздником и реальностью ярко выражено: ритуал повторяет то, что было правдой в мифе, а сегодня это подражание (ishorikutaa pa «подражать» – так говорят, например, об участниках праздника Amurikumа́lu [Амурикума́лу], который устраивается в честь мифических амазонок) или символ (pitalatíji [питалати́жи] – фигура, рисунок, представление).
Участники и объекты ритуала «равны» или «похожи» на мифических персонажей и существ. Например, об имеющихся в деревне флейтах апапалу мне сказали, что они apapа́lu ipöriа́ti «из той же категории, что» изначальные духи апапалу; женщины, участвующие в церемонии Амурикумалу, являются tinaw-kumãlaw ipöku «похожими на чудовищных женщин». Хотя я не могу определить природу этих понятий тождества и похожести в языке явалапити (ipöriа́ti можно назвать предметы одного и того же вида: лук и лук, горшок и горшок; ipöku говорится о внешне похожих вещах: отце и сыне, двух похожих рисунках и т. д.), я почти уверен в том, что между ритуальными действиями и персонажами и их мифическими архетипами нет принципиального отождествления. Итак, человеческий ритуал – это уменьшенная иконическая модель описанных в мифе сверхчеловеческих успехов.
Если миф – это слово, то ритуал находится в сфере действия. Или, точнее, любое действие может относиться к сфере ритуала. Посмотрим, как действие связано с радостью.
Производство телаМне показалось, что центральная для культуры явалапити идея – это идея о том, что человеческое тело должно быть вовлечено в умышленный и регулярный процесс производства. Я имею в виду буквальное производство тела, это перевод корня umа́– «делать, производить», о котором я говорил выше. Сексуальная связь родителей будущего человека – лишь первый шаг на этом пути. Кроме того, подобное производство воспринимается также как «изменение тела», когда речь идет о производственных процессах после зачатия. В основном (но не полностью) оно состоит из операций с субстанциями, соединяющими тело с миром; мы рассмотрели их выше: это телесные жидкости, пища, эметики, табак, растительные масла и краски.
Телесные изменения нельзя считать исключительно знаком изменения социального статуса; они – его неизбежный коррелят, более того: они одновременно и причина, и орудие преобразования социальности. Это значит, что нельзя разделить между собой физиологические и социологические процессы; преобразования тела, социальности и сопутствующего статуса – единое целое. Таким образом, человеческая природа в буквальном смысле формируется или составляется культурой. Тело воображается обществом во всех возможных смыслах слова.
Поэтому я предполагаю, что человек у явалапити не сводится к дуализму, как у же (см.: Melatti 1976, DaMatta 1976), и уж тем более к Homo duplex дюркгеймовой метафизики. Социальное не прикрепляется к телу как инертный носитель, но создает его.
Анализ понятия «делать» требует формулировки другого важнейшего космологического понятия – метаморфозы (yaka-). Этот процесс часто встречается в мифах, он также присущ некоторым болезням и шаманизму (см.: Gregor 1977: 340 и далее). Производство подчиняет природу желаниям культуры, производя человеков. Метаморфоза возвращает избыток и непредсказуемость к порядку социуса, превращая людей в животных или духов. Она понимается как модификация сути, которая проявляет себя в разных планах от поведенческого до, в крайних случаях, плана телесного преображения.
Следует ответить, что эти два процесса не только не являются просто симметричными и обратными друг другу, они имеют свою собственную внутреннюю диалектику. Производство – это создание тела; но тела человеческого; поэтому этот процесс подразумевает отказ от способностей нечеловеческого тела. Метаморфоза – это беспорядок, регрессия и трансгрессия; но ошибкой было бы сказать, что природа просто забирает назад то, что отняла у нее культура. Метаморфоза – это также и сотворение, так как она не просто демонстрирует тот аспект реальности, в котором воплощены и природа, и культура, то есть аспект, который утверждает то, что производство отрицает, но и способствует воспроизведению культуры как внечеловеческой трансцендентности. Таким образом, следует иметь в виду, что понятие производства становится полностью понятным лишь вкупе с понятием метаморфозы, – хотя бы потому, что производство – это особый случай метаморфозы, поскольку даже первобытное «сотворение» было преобразованием.
Выражение «я делаю (своего сына и т. д.)» используется для описания и объяснения действий человека в определенных контекстах производства новых людей: 1) в период, когда мужчина путем повторяющихся сексуальных связей создает тело ребенка в теле матери [60]; 2) во время подросткового отшельничества, особенно в его начале, когда оба родителя должны воздерживаться от секса, подавать сыну эметики и следить за удовлетворением его потребностей; 3) при описании отношений между покойником и его родителями во время церемонии ицати. Шаман, проводящий инициацию другого шамана, также называется «делателем» (inumötsöri
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Известное итальянское выражение Traduttore, traditore («Переводчик – предатель»), где оба слова являются паронимами. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, астерисками обозначены примечания переводчика, а цифрами – примечания автора.
2
Англ. «воплощение» или буквально «утелеснение» (body – «тело»).
3
Использовались существующие русские переводы, во всех неотмеченных случаях они принадлежат переводчику данного текста.
4
Нижеследующие страницы представляют собой краткое изложение моей магистерской диссертации «Человек и общество в верховьях реки Шингу: явалапити» (1977). Материал диссертации был собран в ходе двух кратких посещений поселения явалапити в сентябре – октябре 1976-го и в июле 1977 года. Должен отметить, что с племенем я общался по-португальски: большинство местных мужчин бегло владеют этим языком. Это обстоятельство значительно ограничивает предлагаемые здесь интерпретации. На самом деле одной из главных причин моих поездок к явалапити была возможность поговорить с ними на моем языке об их языке. Я благодарю Роберту ДаМатту, Энтони Сигера и Жилберту Велью за их предложения во время защиты диссертации и Ренату Бондин, стажерку в Лингвистическом отделе Национального музея, также посещавшую явалапити, за обсуждение ключевых для данной статьи вопросов. Как всегда, ответственность за все ошибки и недочеты несет автор.
5
Рыба составляет основу рациона народов верховий Шингу, которые предпочитают ее большинству животных и птиц.
6
Это противоречит другому утверждению, согласно которому многие виды животных, в настоящее время в верховьях Шингу, имелись здесь всегда. См. далее, в разделе о категории umañí.
7
Слово putáka означает «народы верховий реки Шингу», «общество Шингу», а также «деревня», как в смысле общности, так и в пространственном; таким образом, данный термин отдаленно напоминает греческое понятие полиса.
8
Продолжая аналогию, предложенную в предыдущей сноске: если суйя, журуна, каяби и трумаи – это xenoi (ξένοι), то каяпó (чукарраманы) – без всяких сомнений, barbaroi (βάρβαροι).
9
Это не более чем этимологическая спекуляция, но вполне приемлемая.
10
По глупости своей я не догадался спросить, будет ли грусть у женщины называться (nu)katúpa-tápa вместо katúpa-mína. Если мое предположение верно, это должно быть так.
11
Примечание к данному изданию. Сегодня я еще более убедился в том, что модификатор– mína в своей функции оператора включения в класс заключает в себе идею телесности. Именно телом, чувством и состояниями живые существа отличаются друг от друга и через тело, чувство и состояния отождествляют себя с собой. Если– kumã имеет коннотацию духовного изменения (или внутренней и интенсивной инаковости), – mína имеет коннотацию телесной идентификации (или внешней и экстенсивной инаковости). В совокупности эти два модификатора определяют в мышлении явалапити значение понятий «душа» и «тело». См. главы 7 и 8.
12
Суффикс – rúru может использоваться в эмфатическом значении, например: átsa-rúru «отнюдь нет». Синтаксис этого суффикса более гибкий, чем у остальных модификаторов.
13
Грегор связывает эту склонность меинаку к классификационной градации с социологической гибкостью народов бассейна Шингу и делает из этого вывод о том, что меинаку ясно различают «человека за маской» (op. cit.: 295, 298 et passim). Сейчас не время обсуждать эти выводы, но мне не кажется, что вопрос гибкости южноамериканских социальных систем оправдывает такое решение.
14
Этот дом называют umatalhi «сделанным», то есть построенным совместными усилиями всей деревни в ходе особой церемонии.
15
В суйя соответствия следующие: – rúru – kumeni; – mína – uràgà; в свою очередь, модификатор – kàsàgà соединяет в себе свойства – kumã и – malú, что в языке явалапити было бы невозможно. Вспомним также аналогию между модификаторами в явалапити и известными суффиксами в тупи-гуарани: – guaçu и – ju («большой» и «духовный» [дословно – «желтый»] соответственно), – eté «настоящий» и – rana «ложный, похожий»; точный эквивалент– mína не приходит мне в голову – его значение (и значение – malú) в тупи частично покрывает – rana.
16
Kensinger 1975, переиздание: Kensinger 1995: глава 7. Полярность в системе четырех характеристик в кашинауа обеспечивается основными парами kuin/kuinman и kayabi/bemakia.
17
Изначально данная книга писалась как докторская диссертация; она была защищена в 1982 году. О модификаторах в кашинауа см. также Keifenheim 1992.
18
Написание этих форм приводится согласно записи, принятой для каяпо.
19
Вполне возможно, что назревает серьезное сравнительное обсуждение инструментов онтологической модализации в индигенных языках. Например, можно ли считать простым совпадением то, что и в кашинауа, и в явалапити, и в каяпо рассматриваемые суффиксальные последовательности состоят из четырех модификаторов?
20
В 1981 году я получил от Уиллета Кемптона письмо, в котором он комментировал параллели между последовательностью модификаторов в языке явалапити и рядом суффиксов тараумáра. Это антрополог, о фундаментальном исследовании которого о когнитивных прототипах и классификационной градации в этой мезоамериканской культуре (Kempton 1981; cf. Lakoff op.cit.: 15) я узнал от моего преподавателя Энтони Сигера.
21
См. более подробный и исчерпывающий анализ данных вопросов в работах Бассо (Basso 1972, 1973) о пищевом символизме и таксономии живых существ у калапало.
22
Максимально общая категория в португальском языке, которой может обозначаться любая неизвестная переменная. См. выражение tem coisa (дословно «имеется вещь») в значении «есть (ли) нечто/что-то».
23
Примечание к настоящему изданию. В недавно опубликованной статье Эмильенны Айрленд (Ireland 2000: 253) идентичный термин языка ваура, yakawaká, переводится как «малозначимые вещи»; автор уточняет, что в буквальном смысле он означает «насекомые», «букашки», «маленькие рассыпанные вещи». По ее сведениям, это слово, как правило, используется для описания предметов материальной культуры, хотя предметы, имеющие церемониальное применение, имеют общее название apapa alai yajo «по-настоящему ценные вещи». Очевидно, что частица– yajo (меинаку waja) соответствует– rúru, а слово apapálu в явалапити должно соответствовать apapa alai в ваура. Вполне возможно, что предложенный мне перевод слова «вещи» (в более общем значении «сущности») как yakawaká был связан с тем, что я наивно домогался от своих собеседников онтологических макрокатегорий: я искал абстрактный «объект», а они дали мне «букашек» и «маленькие рассыпанные вещи»…
24
Ipúla, возможно, образовано от корня ipu-, присутствующего также в ipúka «расти/росток/относящийся к предкам», и в ipuñöñöri «люди». В свою очередь, живые, то есть существа, живые сейчас, а не мертвые, называются kutírilaw «бодрствующие».
25
Детей матери-одиночки тоже называют ipúka-pira.
26
Например, змеям и муравьям. Мои собеседники не всегда были единогласны в отнесении некоторых животных к определенному классу. Для одних змеи – это apapalutápa-mína; для других – «просто змеи». Тракаксу иногда относили к kupáti, а иногда к apapalutápa-mína; кажется, это зависело от того, воспринимает ли говорящий объект как еду или нет.
27
См. главу 7 настоящей книги. В ней в общих чертах обсуждается «перспективизм», заключенный в подобных утверждениях.
28
Есть и другие эвфемизмы, например: apalaka-riñöjô «наше лицо», ipuñöñöri ukúna «лесной люд», ipuñöñöri tika-tiwá «люд, что живет на верхушках деревьев». Охота как таковая описывается глаголом, первичное значение которого – «идти».
29
Леви-Строс (Lévi-Strauss 1964: 140 и далее) описывает сходную систему у тику́на: «Ягуар – противоположность человека; а макака – скорее, его дополнение». Пример явалапити иллюстрирует и дополняет эту мысль, привнося пищевое правило. Запрет употреблять apapalutápa-mína в пищу схож с запретом инцеста; употребление в пищу макак тогда являлось бы символом, нарушающим разделение между человеком и земными животными и тем самым напоминающим о нем.
30
Тем не менее стоит обратить внимание на то, что в мифологии народов Шингу макаки встречаются довольно редко.
31
Waráyunaw, дикари не с Шингу, едят «мясо зверей», из-за чего становятся агрессивными (kañuká) и непредсказуемыми, как ягуары. Пищевой режим – одна из отличительных черт настоящих людей, он связан с этосом мира и уважения, характерным для народов Шингу.
32
Разные версии мифа народов Шингу о сотворении человека можно прочесть в кн.: Villas Boas 1972, Agostinho 1974b, Monod-Becquelin 1975.
33
Хотя при этом близнецы-архетипы человечества «убили Отца», метонимически убив Ягуара (а не большую Макаку, как в «Тотеме и табу»), изображаемого подчиняющимися ему животными.
34
Откладывание яиц называется yumököpöño. Корень– yum- дает парадигму терминов, связанных с репродуктивной физиологией: менструация, маленький ребенок, плод и т. д.
35
Это, как известно, одно из понятий-мана: «Что это за красный зверек?» (Lévi-Strauss 1950: XLIII).
36
Зарур (Zarur 1975: 72) утверждает, что Апаша связан со стариками, а Бастус (Bastos s/d: 7) отмечает, что у камаюра макаку поедают только старики. Но у явалапити не так; тем не менее слово «старый» (wököñöjí) действительно является одним из описательных имен Апаша. Ритуал Апаша допускает или даже требует клоунады и не считается kawíka. Танцующие люди ходят по домам, выпрашивая еду, чего никогда не происходит в повседневной жизни. Такое нарушение правил может быть связано со стариками, если провести параллель с суйя (Seeger 1976). Элоиза Фенелон Коста в беседе со мной предположила, что Апаша может быть связан с первобытными, или докультурными, традициями.
37
Во многих индигенных культурах болезнь рассматривается как разновидность духовного каннибализма. Однако мне неизвестно, разделяют ли эту идею явалапити.
38
У америндейских народов отсутствует понятие «домашнее животное»; понятие шеримбабу приближено к нему, но не соответствует ему полностью. Подробнее см. главу 7 настоящего издания.
39
Если душа мертвого человека умирает повторно, она превращается в большую черную бабочку, mapapalúlu-kumã. Явалапити видят в ее свободном порхании бег шаманов в трансе.
40
Сигер (Seeger 1974: глава 5) обратил мое внимание на символизм обонятельного кода, хотя для явалапити, по моим наблюдениям, категории запахов не имеют такого значения, как для суйя.
41
Среди прочих обонятельных категорий следует упомянуть örö – запах, в частности уруку́ (аннато), tawaji (растительного масла) и пеки; и haká – запах съедобных животных, не относящихся к рыбам, например, некоторых птиц и макак.
42
Сразу после церемонии пихикá мальчики тоже уходят в отшельничество и примерно два месяца не могут есть рыбу. Они питаются маниоковыми лепешками, потом макаками и птицами. Из-за потери крови их прямо сравнивают с женщинами во время менструации.
43
Однако ДаМатта (DaMatta 1976: 85, № 15) указывает на связь между запахом, кровью и душой у апинайé.
44
Примечательно, что для явалапити, как и для множества других культур (см. Lévi-Strauss 1962b: 140), сексуальность и еда имеют огромное сходство. Действия «есть» и «совокупляться» называются одними и теми же словами, а видеть во сне сексуальные отношения означает большой улов. [Примечательно, что в бразильском португальском языке слово «есть» – comer – является омофоном табуированного глагола, означающего «заниматься сексом с мужской перспективы». – Примеч. пер.]
45
Считается, что после рождения первого сына живот отца наполняется кровью, которую нужно быстро удалить путем воздержания от рыбы и употребления рвотных трав; в противном случае у мужчины разбухнет живот, и он станет «плохим человеком» (ipuñöñöri-malú). Такая же опасность поджидает и человека, убившего колдуна: кровь жертвы наполнит его живот; чтобы избежать этого, нужно поступать так же, как отец во время кувады.
46
Примечательно, что ataya соотносится с помещением, где находится отшельник, а табак шаманы курят в основном в сумерках на wöhúka – деревенской площади. Дома мужчины курят только тогда, когда лечат больного или проходят шаманское обучение. Считается, что начинающий шаман от табака толстеет, как подросток от приема рвотных трав.
47
Ukú, «стрела» – метафора пениса.
48
Кабо́клу (порт. caboclo) – потомки смешанных браков между белыми и коренным населением Бразилии. Понятие «рéйма» (порт. reima) означает негативный, или опасный для здоровья, эффект, оказываемый определенной пищей на человека в переходном состоянии (инициация, беременность и т. д.).
49
Обсуждение такого «консубстанциального общества», характерного для идеологии родства у народов Центральной Бразилии, см. в кн.: Seeger 1975 и DaMatta 1976.
50
«Оплата едой – основополагающий критерий отношений, которые не определяют родственные связи…» (Basso 1969: 165).
51
И эти запреты имеют стратегическое значение при определении отношений, которые должны получить одобрение общины, – см.: Basso op. cit.
52
Сигер (Seeger 1974) отмечал такое же отождествление нарушения пищевых запретов и колдовства у суйя.
53
Несоблюдение пищевого запрета – kanakatí. Kanakatí можно сказать об инцесте, рождении близнецов и в целом о любом неприятном и неожиданном происшествии. Явалапити страшатся близнецов, считая их животной избыточностью, плодом чрезмерной сексуальности. Примечательно, что Солнце и Луна были близнецами и родились от животного, что указывает на избыточный характер мифического и первобытного мира.
54
Перечисление запретов, которым должен следовать отец после родов, см. в кн.: Gregor 1977: 272.
55
Ср. inutayata «рассказывать, повествовать».
56
Такие атрибуты особенно часто встречаются в мифах.
57
Именно так сказал мне Аритана. Я спросил его: «А люди, мы все здесь, тоже umañí?» Он ответил: «Мы здесь – нет, нас сделал отец… А вот люди, то есть ipuñöñöri, да, они umañí, их сделало Солнце».
58
Это просто фигура речи. Напомню еще раз, что я не понимаю язык явалапити, и мне неизвестны темпоральные и аспектные характеристики мифического нарратива.
59
К katupa (грустным, а точнее, связанным с чувством скорби и потери: katupalhí – вдовец, катупальи́) относятся мифы о сотворении людей, об изобретении праздника мертвых (который сам по себе называется «радостью»), рассказы об Амурикумалу, миф о происхождении пеки и т. д. Примечательно, что определение мифа как грустного или скорбного рассказа свидетельствует о том, что миф – не просто инструмент познания, он передает сложные и культурно значимые эмоции.
60
В свою очередь, мать использует это выражение только во множественном числе («мы делаем»), что отвечает общему для америндейских народов стремлению выделить особую формирующую роль семени. О понятии «вырабатывания» ребенка у камаюра, где вклад матери представляется более значимым, см.: Bastos 1978: 34–36.