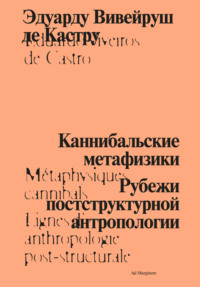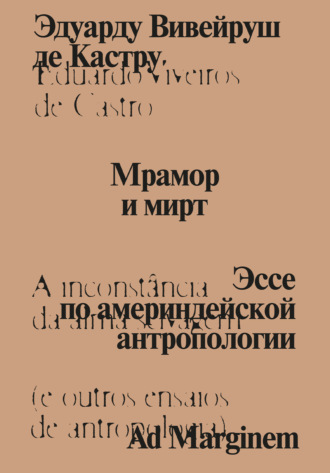
Полная версия
Мрамор и мирт. Эссе по америндейской антропологии
Памяти Пару
Глава 1
Очерк космологии народа явалапити
В данной статье изложены некоторые космологические идеи народа явалапи́ти, относящегося к аравакской группе и проживающего в верховьях реки Шингу [4]. Она начинается с анализа одного яркого аспекта индигенной классификационной практики, затрагивая темы одушевленности, логики чувственности, на которую опирается пищевой рацион человека, и процессов производства тела и телесной метаморфозы.
Виды жизниДля категоризации явалапити весьма характерна аффиксация базовых понятий с помощью модификаторов. У меня нет опыта, чтобы рассуждать о собственно лингвистических аспектах этого феномена, и знаний, чтобы оценить его распространенность вдоль всей реки Шингу. Но всё же я считаю полезным обратить внимание на широкое применение подобных морфем в языке явалапити, и опасаюсь, что возникнет необходимость рискнуть и расшифровать их значение.
Когда я просил своих собеседников классифицировать любой объект (предмет, животное, качество, функции и отношения, связанные с конкретным человеком), то есть пытался выделить в широком классе некое означаемое, то их ответы почти всегда приводили меня к выводу о наличии четких разграничений внутри категориальной парадигмы. Как будто язык (или культура) обладает неким конечным инструментарием чистых или идеальных понятий, так что отождествление с подобными понятиями любого означаемого возможно только при помощи семантических инструментов – я называю их модификаторами, – функция которых заключается в установлении метонимической дистанции или метафорического различия между идеальным прототипом и действительным феноменом. Или, иными словами, категории классификации как будто имеют практический смысл только при их использовании с аффиксами, обозначающими, каким образом означаемое относится к своему классу.
На мой взгляд, эту функцию в речи явалапити выполняют четыре модификатора: – kumã, -rúru, – mína и – malú. Почти всегда они идут после существительного. Так, зоологический класс úi «змея» может иметь следующие конкретные представления: úi-tyumа́ (алломорф – kumã) – змеи-духи; úi-rúru – ядовитые змеи; úi-mína – животные, похожие на змей; úi-malú – неядовитые змеи. Это не разделение на подклассы, а способ адаптировать таксономию к конкретным случаям. Однажды я услышал, как один человек ругает народ ваура́ за то, что они едят электрического угря. Я спросил его: «Но разве электрический угорь – не рыба (kupа́ti)?», а он ответил мне: «Нет, это змея (úi)» [5]. Я переспросил: «То есть это змея?», а он тогда повторил: «Нет, это просто úi-mína». Модификаторы используются в различных семантических сферах, они определяют признаваемые культурой формы отношений между общими понятиями и классифицируемыми отдельными предметами. Поэтому, вероятно, проверка означаемого может приблизить нас к пониманию фундаментального для культуры народов верховий реки Шингу способа познания.
Явалапити более или менее четко разъяснили мне значение модификаторов. Класс – úi, например, был поделен на следующие: «большие, свирепые, невидимые» змеи (-kumã); «настоящие» змеи (-rúru); «неправильные, плохие» змеи (-malú); «существа, похожие на змей» (-mína). Таким образом, модификаторы означают, соответственно, «чрезмерность», «истинность», «внутренность» и «схожесть». Эти сложные отношения включают в себя оппозицию между формой и содержанием по принципу градации между типом и индивидом. Кроме того, суффиксы представляют собой систему гибких оппозиций; в ряде случаев отношения несут в себе осадок диадического контраста: так, – kumã и – rúru могут противопоставляться друг другу как «чудовищное» и «совершенное», как «архетип» и «существующее» и так далее. Анализ каждого модификатора требует учета значений, которыми он обладает в целой системе.
Особо продуктивны два модификатора: – kumã (на мой взгляд, наиболее выраженное его значение – «сверхъестественный эквивалент») и – mína (что-то вроде «аналог образца и активный участник его парадигмы»). Однако и сверхъестественность – kumã, и партиципаторная аналогия – mína подчиняются разнообразным критериям, обрастая значениями, которые на первые взгляд кажутся совсем разными.
Суперлатив – kumãСуффикс – kumã (женский род: – kumа́lu) в общих чертах указывает:
1) на крупнейшего представителя рода животных: kutipíra-kumã – гарпия, самая большая птица (kutipíra); kupа́ti-kumã – сом-плоскоголовик пира́ра и позолоченный сом жау́, крупнейшие рыбы (kupа́ti) из обитающих в регионе;
2) на некоторые виды или разновидности живых существ, которых классификация связывает между собой: iru – черепаха трака́кса и iru-kumа́lu – угольная черепаха жабути́, а́wtu – ошейниковый пéкари и а́wtu-kumã – белобородый пекари. До конца неясно, всегда ли виды, обозначаемые суффиксом – kumã, должны быть больше размером; когда речь идет о растениях, суффикс – kumã не всегда указывает на растение, близкое таксономически (ботанически) другому растению без этого суффикса, в отличие от приведенных выше примеров из животного мира;
3) на существа и предметы, находящиеся за пределами локального пространства и времени: животные, которых местные жители видели в зоопарках Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, а также любые экзотические виды, название которых почти всегда образовано путем добавления суффикса – kumã к слову, обозначающему знакомый местным жителям местный вид; а также на далекие во времени родственные связи, как то: правнуки и прочие потомки, которых называют ipuyа́ka-kumã (внук-kumã).
Бык и лошадь называются tsõma-kumã, то есть тапир-kumã; awayúlu-kumã (лисица-kumã) – это собака; жираф – это олень-kumã. Putа́ka-kumã, то есть деревня-kumã – это город; warа́yu-kumã – это индейцы (warа́yu) не из Бразилии; õuyа́-kumã – это море, или «большая лагуна». Yawalapíti-kumã – это полулегендарная группа явалапити, которая когда-то отделилась от явалапити, известных ныне, и ушла жить к истокам реки Кулуэни; их никто не видел до сегодняшнего дня. В этнологической литературе они известны как агавотоквенги (Agavotoqueng); это карибское слово – буквальный перевод самоназвания явалапити: Agav-oto – то же самое, что Yawala-píti (первое слово можно перевести как «хозяева [деревни, где растут] пальмы туку́н», а второе – как «место [деревня], [где растут] пальмы тукун»), а – queng, или – kuegi – карибский аналог суффикса – kumã.
4) на существа из мира духов, соответствующие настоящим: yanumа́ka-kumã – это сверхъестественная пума; iishа́-kumã – фигурирующее в одном мифе чудовищное каноэ, способное оживать; pitõpo-kumã – это волшебная громадная пита́нга, птица-покровитель шаманов;
5) на все существа и предметы, связанные с мифологией. Когда я, услышав во время пересказа мифа общий термин, переспрашивал: «Это существо – то же самое, что Х или похоже на Х?», мне отвечали: «Нет, это Х-kumã».
– kumã в значении 1 мне перевели как «большой/большая», в значении 2 – как «другой/другая». Значение 3 частично пересекается со значениями 2 и 5; как правило, его переводили как «далекий/далекая». В значении 4 пояснением служило слово apapalutа́pa (апапалута́па), а некоторые из моих собеседников использовали прямой перевод – «дух». Оба слова почти всегда подразумевали антропоморфный предикат. Наконец, значение 5 можно охарактеризовать просто как мифическое. Зачастую значения накладываются друг на друга: kutipíra-kumã – это и гарпия (настоящая птица), и двуглавый гриф – царствующая в небесах птица-дух; kupа́ti-kumã – это и пирара, и любая сверхъестественная рыба; ayõma-kumã – это и жираф из зоопарка в Рио-де-Жанейро, и мифический олень.
Когда я вне контекста спрашивал собеседника, что означает термин [название животного]-kumã, мне чаще всего отвечали так: «Свирепый, храбрый, большой зверь, которого никто не видит». Таким образом, этот модификатор указывает на ряд атрибутов: свирепость, большой размер, невидимость, чудовищность, инаковость, духовность, отдаленность. Здесь важно то, что эти атрибуты часто перехлестываются. Само понятие «дух» может происходить от значения этого модификатора.
Добавление суффикса – kumã к типовому понятию маркирует инаковость означаемого по отношению к своему классу. Эта инаковость – наружная и излишняя. И это излишество, схематизированное образами свирепости и громадности (-kumã – это, с позволения Лакана, «большой Другой»), как будто смешивает в себе два противоположных значения модификатора: она указывает на отличие, а вместе с тем на архетипичность. Другой и Я – и наоборот. Как будто перед нами эти два предложения: любой образец представляет онтологическое сверхизобилие; любое сверхизобилие чудовищно инаково.
«Духовное» или «чудовищное» значение суффикса – kumã противопоставляется значению суффикса – rúru «настоящее» или «собственно говоря». Но в значении «большое» или «архетипическое» он противопоставляется вещам-mína, то есть слабой копии мифического образца: в этом конкретном смысле мифические персонажи преимущественно – kumã. Некоторые собеседники говорили мне, что первые животные были слишком большими и свирепыми, и что в начале времен близнецы Солнце и Луна прогнали их всех с Шингу: «Они ушли в Африку, а здесь осталась только пума» [6].
Аналогия между различными значениями – kumã – большое, инаковое, свирепое, невидимое, отдаленное – проливает свет на космологическую природу этого модификатора. В нем мир повседневного опыта пересекается со сферой вещей-kumã – духов и мифических существ; есть животные-kumã и вещи-kumã, доступные нашему опыту, а есть существа-kumã, которые являются apapalutа́pa, сверхъестественными, то есть «духами». Мир как целое как будто расположен между космологически внешним полюсом – kumã и областью объектов – rúru, – mína и – malú – разновидностей космологического внутреннего. Понятия «настоящего» и «воображаемого» в этом контексте не имеют никакого смысла; основное противопоставление наблюдается между объектами в превосходной степени, оригинальными, архетипическими и/или чудовищными, и вещами «собственно говоря», настоящими, актуальными, но в то же время представляющими собой уменьшенные копии образцов.
Классификатор – mínaЭтот классификатор используется наиболее широко:
1) как оператор классификационой инклюзии, или обобщения: kutipíra-mína означает всех крылатых животных (kutipíra «птица»); atatapа́-mína – все растения, корни которых имеют хозяйственное значение, корнеплоды (atatapа́ «корень»); в этом смысле данный суффикс означает что-то вроде «из такого-то рода», «разновидность»;
2) для различения сущностей или отношений, которые, несмотря на свою принадлежность к определенному классу, не являются полноценными, совершенными примерами, безупречно соответствующими образцу класса: úi-mína, как мы видели, означает электрического угря, который лишь своим видом напоминает змею; úa-mína – человек, которого можно счесть дядей по материнской линии; amulaw-mína – лидер, не соответствующий всем критериям лидера, вождь, не выполняющий всех своих обязанностей; putа́ka-mína – это народы суйя́, журу́на, каяби́ и трумаи́, которые не относятся к группе народов верховий реки Шингу (putа́ka) [7], но уже давно проживают в этой местности и поддерживают с ними родственные связи. В этом плане данный суффикс имеет коннотацию «похожий», «почти», «ослабленная форма».
В свою очередь, народ чукаррама́н – это warayu-rúru «настоящие индейцы [не с Шингу]», то есть по-настоящему свирепые и дикие [8]. Примечательно, что warayu-kumã называют «других дикарей» – китайцев, японцев, ятмулов и нуэров, запечатленных на фотографиях из книг, которые я показывал своим собеседникам. Тем не менее настоящих японских фотографов и туристов, которые приезжали в верховья Шингу, они называли putа́ka-kumã – я бы перевел это как «другие мы» или «сверхшингуйцы». Прочих чужаков, имеющих западные черты лица – североамериканских и европейских антропологов, – местные называли karaiba-kumã – «другие неиндейцы» или «сверхбразильцы»…
3) как составная часть выражений, описывающих состояние и чувства человека, например: katúpa-mína «грусть», kaputsakа́-mína «кожа, покрытая красным соком аннато», или ahí-mína «запах тела после полового акта».
4) встречается также форма /mína/, чья связь с предыдущими значениями суффикса неочевидна. В качестве перевода португальского слова «тело» (corpo) мне предложили mína-tíji, пояснив, что его применяют в отношении людей и любых животных; – tíji похоже на возвратную или эмфатическую частицу. Я не уверен, что в данном случае /mína/ – то же самое, что – mína из предыдущих примеров. То, что оно находится в препозиции по отношению к – tíji и его функциональная схожесть с существительным, говорит не в пользу ассимиляции с суффиксом – mína. Тем не менее существует женская форма этого слова, tа́pa-tíji «женское тело, тело женской особи», и это говорит о том, что такое сближение между /mína/ и модификатором возможно. Для решения этого вопроса важно решить, принимаем ли мы деление термина apapalutа́pa «дух» на основу /apapalu/ и суффикс /-tа́pa/, где первый элемент, apapalu, означает флейты жакуи́, основной инструмент манифестации духовности у местного населения [9]. В таком случае духи вообще будут «разновидностями» apapalu. Грамматически это слово женского рода, и добавление к нему женской формы суффикса – mína говорило бы о том, что модификатор – mína из примеров 1, 2 и 3 может точно так же измениться, как /mína/ в mína-tíji [10].
Если всё вышесказанное верно, то не будет недопустимым преувеличением предположить связь между – mína в значениях 1 «принадлежащий к классу Х», 2 «несовершенный экземпляр Х», 3 «телесное состояние Х» (тогда грусть – katúpa – должна в этом случае пониматься не как психическое, а как соматическое состояние) и, наконец, 4 /mína/ как часть понятия, обозначающего «тело». Возможно, перевод – mína как «отелеснение объекта Х» передает общий смысл этого модификатора, если объектное участие считать метонимической связью. Действительно, можно сказать, что – kumã соответствует метафоре, а – mína – метонимии [11].
В случае 1 – mína означает полную принадлежность означаемого какому-то классу – в противоположность суффиксу – malú, который указывает на низший экземпляр. Например, ipuñöñöri-mína – это «хороший человек» (точнее, «человек добра»), а ipuñöñöri-malú – это «те, кто не умеет говорить», то есть эгоистичные, агрессивные и антисоциальные люди, противоположность знати – amulawnaw. Поэтому здесь – mína означает положительное включение человека как экземпляра идеального типа.
Я рассматриваю этот вид классификации людей, в особенности атрибуты amulaw «капитан», то есть вождь, аристократ, в своей диссертации (Viveiros de Castro 1977). В ней отмечается, что ipuñöñöri-malú – антоним amulaw, но не всякий ipuñöñöri-mína является amulaw, хотя в идеале должно быть так. Наконец, «плохой, дурной человек» – это mipuñöñöri-tа́ri «не-человек» (дословно). Таким образом, разница между людьми-malú и «нелюдьми» – разница между ступенями. Следуя значению 1, ipuñöñöri-mína можно перевести как «человеческий род», а согласно значению 2 – как «близкий к идеальному типу человека». Примечательно и то, что слово ipuñöñöri-rúru синонимично ipuñöñöri-mína; они противопоставляются и «нелю́дям», и ipuñöñöri-kumã – всевозможным антропоморфным духам, что обитают в лагунах верховий Шингу.
В более общем значении 2 – mína действует как базовый оператор классификации явалапити. Это миноритарный маркер, указывающий на то, что классифицируемый объект находится уровнем ниже, чем стоящий во главе классификации идеальный тип. В этом значении данный модификатор антонимичен – rúru «настоящий», «как таковой»; он курьезным образом инвертирует значение 1. Вещи-mína – это вещи, которые лишь отчасти соответствуют образцу, в то время как вещи-rúru полностью к нему подходят: itutakа́-rúru — это «настоящий» брат, сын того же отца и/или той же матери; itutakа́-mína – это все параллельные (а в зависимости от контекста и пересекающиеся) родственники моего поколения, к которым в сглаженном виде применяются те же правила отношений. Суффикс «как таковой», – rúru, может быть конкретизирован суффиксами качества utúna «много, очень». Суффикс «почти», – mína, может уточняться словами pahítsi «мало, немного», parúti «половина», ihöwku «далеко» [12].
Тем не менее есть смысл говорить о суперпозиции значений 1 и 2. Члены одного и того же вида – всегда несовершенные экземпляры, подобия и копии Архетипа, который зачастую воплощен в мифическом существе. В каком-то смысле совокупность всех сущностей всегда будет – mína в противоположность совокупности образцов, сущностей-kumã. В свою очередь, модификатор – rúru завис где-то посередине дороги: он определяет те существующие вещи, которые стремятся к образцу сущностей-kumã, которые, в свою очередь, стремятся к гипертрофии и превращению в чудовищ. С одной стороны, образец, архетипы, излишество и чудовищность, с другой – подобие, актуальность, неполнота и низшее положение. Система располагается между двумя полюсами – сущностями-kumã и сущностями-malú: совершенными чудовищами и негодными симулякрами; между этими полюсами размещаются равные образцу сущности-rúru и близкие к образцу сущности-mína.
В качестве примера контекстуальной вариативности использования модификаторов возьмем категорию kutipíra «птица». Kutipíra-mína – это любое крылатое животное, а kutipíra-kumã, как уже говорилось, гарпия. В какой-то момент я услышал выражение kutipíra-rúru, которое для меня перевели как «настоящие птички»; это были не воробьинообразные, а хищные птицы, к которым относится и гарпия. В этом контексте выражение kutipíra-mína указывало лишь на «маленьких пташек» (воробьинообразные, а также попугаевые и т. д.), а kutipíra-kumã переводилось как «пташка-дух». Другой пример – из мира рыб: электрический угорь называется úi-mína «ложная змея», или kupа́ti-parúti «полурыба»; а вот скат – это уже kupа́ti-malú «негодная, неправильная рыба»; в свою очередь, kupа́ti-rúru – это рыбы с чешуей, а также большинство рыб без чешуи; kupа́ti-kumã – это только рыбы-духи. Возможность развития диадического противопоставления (-mína/-kumã, -rúru/-malú) в соответствии с особыми требованиями говорит о том, что система модификаторов не связана с незыблемой таксономией.
Система модификаторовВ другом тексте (Viveiros de Castro 1977) я указывал на распространение понятий «много» и «мало» в атрибуции групповой идентичности, классификации степеней лидерства (amulaw) и иерархии родовых отношений у явалапити. К этому же вопросу обращается и опубликованная в 1977 году книга Томаса Грегора о меина́ку (см. разделы 17 и 18) [13]. На самом деле классификация по градиенту расстояния от типа применяется не только к социальным отношениям; похоже на то, что она характерна для всей культуры явалапити, что выражается частым использованием модификатора – mína. Этот непрерывный и скалярный способ познания соотносится с явно концентрической социопространственной организацией (см. Lévi-Strauss 1956) и с отсутствием какого-либо радикального разделения между сферами природы и культуры.
Еще пара слов о двух оставшихся модификаторах. Суффикс – rúru «настоящий, правильный» в некоторых контекстах напрямую контрастирует с – malú «ложный, несовершенный, низший». Только большой дом putа́ka wököti — «хозяина деревни», представителя группы – называется pa-rúru «настоящий дом»; все остальные дома – pa-malú [14]. А в типологии видов речи (Gregor 1977: 76 и далее) существует разделение между yayakatualhí-rúru «настоящей речью» (формальная речь вождя, которую он произносит, стоя в центре деревни, или любое лингвистическое сообщение, выражающее собой отождествление со свойственным народам Шингу образом жизни) и yayakatualhí-malú «плохой речью» – так говорят о слухах и пересудах внутри дома и на окраине деревни. Но, кроме того, речь-malú – это и детский лепет, и словесные игры (как правило, сексуального характера) между кросс-родственниками, и агрессивная речь колдунов. Суффикс – malú, как правило, применяется к объектам и существам, которые «не такие», как их прототип, или «не похожи» на него в своих действиях. В приведенном выше примере úi-malú – это неядовитые змеи; таким образом, этот модификатор не всегда привносит коннотацию опасности или зловредности, но всегда – несовершенства.
В целом структуру системы можно наглядно представить в двух вариантах:

А если учесть, что на самом деле все модификаторы упорядочены от под-вещей к над-вещам, то мы имеем следующую картину:

При этом между – kumã и – rúru более выражена дискретность, поскольку, напомню, они могут быть диаметрально противоположными друг другу как «сверхъестественное» и «актуальное»: – rúru в этих случаях подчеркивает сущность не-kumã-сущностей, выполняя роль высшей границы – mína и – malú.
Эта схема весьма продуктивна. Как мы увидим ниже, животных называют apapalutа́pa-mína, а собственно духов – apapalutа́pa-rúru. Поскольку духи по определению являются сущностями-kumã, то мы имеем дело с kumã-mína, kumã-rúru, а в конце концов и с kumã-kumã; кто-то однажды сказал мне, что в Рио-де-Жанейро должно быть много apapalutа́pa-kumã, то есть духов-kumã.
Завершая это вступление, следует сделать два замечания. Во-первых, вышеописанная когнитивная схема отражается и в этосе явалапити. Вещи-rúru, и в особенности вещи-kumã (сверхъестественные), являются предметом kawíka «уважения», или «страха». В общем, чем ближе объект к своему образцу, тем сильнее и определеннее отношение к данной сущности или к данному отношению.
Во-вторых, полезно будет сравнить предложенную модель с четырехчастной парадигмой, которую Эллен Бассо (Basso 1973:17–26) вводит для народа калапа́ло, опираясь на критерии «человеческой метафоры» и «притяжательного суффикса». Хотя, на мой взгляд, схема, опирающаяся, как у Бассо, на дискретные оппозиции, не может отражать свойственного народам Шингу непрерывного характера классификаций, она все же затрагивает важные аспекты, о которых я не могу говорить, – как, например, отношения, подразумеваемые притяжательными суффиксами. Напомню также, что модификатор – kumã встречается в бассейне Шингу не только в аравакских языках: в языке калапало ему соответствует – kuegi (Basso op. cit.), а в камаюра – aruwiyap (Agostinho 1974a). О существовании в этих языках других модификаторов сведений нет. Грегор в своей работе о меинаку (Gregor 1977) – а меинаку, как и явалапити, говорят на языке аравакской группы – указывает на такое же употребление – kumã, а также отмечает суффикс – waja, эквивалент – rúru, и – malú в том же значении. Что касается когната – mína, – mune, о «сложном значении» которого говорит Грегор, он указывается как «существительная» морфема; это решение кажется мне слишком ограниченным, но, несомненно, приемлемым. А здесь автор (id. ibid.: 321) переводит apapãiyei mune – apapalutа́pa-mína у явалапити – как «наземное животное». Как было показано выше, это выражение совершенно точно означает «дух-mína», из этого можно сделать совсем не те выводы, какие сделал Грегор.