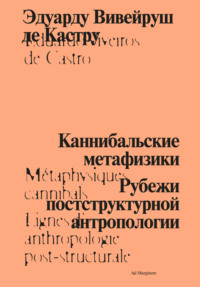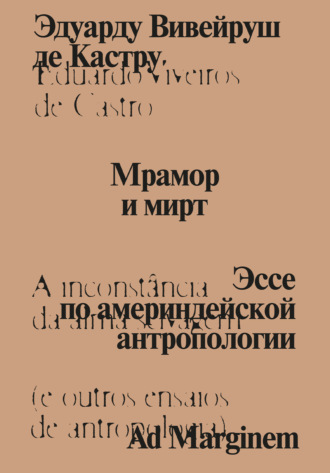
Полная версия
Мрамор и мирт. Эссе по америндейской антропологии
Наконец, я знаю, что речевые модификаторы – ни в коем случае не прерогатива ни араваков, ни какого-либо другого народа верховий Шингу. Я не пытаюсь взять потенциально универсальный лингвистический инструмент, чтобы замкнуть его ареал на этом регионе. Далеко ходить не нужно: например, у суйя, как у многих других народов группы же, есть нечто подобное (Seeger 1974; личная беседа) [15]. Вопрос, прежде всего, заключается в превалировании в верховьях Шингу космологии непрерывного или концентрического типа; систематическое и частое использование в явалапити модификаторов рассматривается здесь исключительно как способ подобраться к этому свойству.
Два примечания к настоящему изданию[1] Систему, образованную суффиксами-модификаторами, можно схематично представить и в ином виде. Рисунок ниже сочетает свойства обоих предыдущих рисунков, позволяя увидеть в этой системе реализацию структуры, о которой говорится в главе 8 (предлагаю читателю ее прочесть):

Нисходящая линия описывает процесс актуализации и отелеснения сущностей, а восходящая – обратный процесс виртуализации, или «одуховления». Kumã-состояние мифа, режим абсолютной инаковости, или постоянного изменения, глобально отличается от mína-состояния исторического мира (который порождает и сопровождает в качестве виртуального фона состояние-другой), в котором царят относительная похожесть и переменчивая идентичность. Ритуал – фигура исторического мира – является тогда моментом, в который человеческий коллектив (-mína) вновь приближается к величайшему (-rúru) из мифических достижений, перед лицом которого, в свою очередь, повседневная жизнь (-mína) оценивается как онтологически низшая (-malú).
[2] Во время написания этой работы в 1977/1978 году я еще не был знаком с работой Кеннета Кенсинджера, который первым изучал модификационные суффиксы kuin, kuinman, kayabi и bemakia в языке кашинауа́ (паноанская группа); эти модификаторы аналогичны модификаторам в явалапити [16]. Заслуживает внимания сходство проблемы, затронутой Кенсинджером, и описанной в нашей работе; тем не менее необходимо осознавать разницу между анализом, основанным на уверенном владении языком туземцев (случай Кенсинджера) и анализом, наивно опиравшимся на фрагменты бесед на португальском языке о другом языке, на котором я не произнес ни слова.
С тех пор над модификаторами в кашинауа было сломано много копий. Патрик Деей и Барбара Кайфенхайм в своей работе от 1994 года посвятили им 600 страниц; эти авторы предлагают трактовку, расходящуюся с трактовкой Кенсинджера в ряде важных аспектов [17]. Очевидно, я не вправе вносить в эту экзегезу значительные поправки. Так или иначе, анализ Деэя и Кайфенхайм позволяет установить следующие корреляции (конечно, не совсем точные) между сериями модификаторов в кашинауа и явалапити: kuin, который авторы переводят как «Я» (или «я-самое», франц. Soi) коррелирует с – rúru; bemakia, «Другой», сходно с – kumã; kuinman, «не-Я» (non-Soi) – с – malú; а kayabi, «не-Другой» – с – mína. Однако подобная корреляция сводит на нет непрерывную градацию последовательности явалапити.
Что касается верховий Шингу, Бруна Франкетто (Franchetto 1986) указала на параллели и, что самое важное, на лакуны и расхождения между последовательностью в явалапити и ее возможными аналогами в языке куйку́ро (карибская группа). Несмотря на схожий контраст между эквивалентами – kumã и – rúru, в куйкуро не существует формы, синонимичной – mína; это отсутствие, несомненно, крайне важно, поскольку ограничивает продуктивность какой-либо экстраполяции системы на весь бассейн Шингу, если исходить исключительно из этого уникального лингвистического феномена. Первые исследования Аристотелеса Барселуса Нету (Barcelos Neto 1999: 74, 98–100; 2000) о народе ваура́, который, как явалапити и меинаку, говорит на языке аравакской группы, склонны подтвердить этот анализ модификаторов в явалапити; автор объясняет суффикс – müna (явалапити: – mína) как «обычный» и «видимый», в противоположность необычайным и невидимым сущностям-kumã.
Марсела Коэлью ди Соуза в своем обширном этнографическом обзоре (Coelho de Souza 2002) рассматривает функции качественных суффиксов kumrem, dzwoy, kaàk и kaigo [18] в северных языках группы же. Эти суффиксы довольно часто используются, например, для выражения модальности степени родства. Их было принято переводить соответственно как «истинный», «настоящий», «ложный» и «ненастоящий»; считалось, что они отчасти избыточны (два на два). Мы же, напротив, утверждаем, что они могут образовывать не менее двух неизбыточных пар противоположностей, одна из которых дискретна и категорична, а другая – непрерывна и детальна; здесь нельзя не вспомнить кенсинджеровский анализ системы кашинауа [19].
Еще меньше я был осведомлен о считавшемся тогда авангардом лингвистически-когнитивном подходе – речь о так называемой теории прототипов Элеанор Рош, которая бросила вызов классической, или аристотелевой, теории категоризации (см. Lakoff 1987). Если бы у меня было больше информации на эту тему, то я мог бы предположить, что явалапити задолго до Рош развили этнотеорию прототипов… Но я считаю, что антропологический интерес к категориальной градации как результат недовольства засильем единственной чрезмерно дискретной и «тотемической» концепции классификационного познания – или чрезмерно классификационной концепции познания – в то время был распространенным явлением в среде теоретиков. Несомненно, в нем источник и моего внимания к этому аспекту мышления явалапити [20].
Типы существМодификаторы в явалапити играют важную роль в классификации живых существ: – mína указывает на виды или роды определенных животных, а – kumã определяет духовную сущность, apapalutа́pa. Люди, животные и духи – основные полюса макротаксономии, которую мы представим ниже [21].
В качестве перевода португальского слова coisas – «вещи»[22], существа и предметы мира – явалапити предложили мне понятие yakawakа́. Yakawakа́ делятся на: apapа́la «предметы» и ipúla «живые существа»; последние, хотя и относятся «в теории» к yakawakа́, никогда этим словом не называются [23]. К ipúla относятся люди, некоторые животные и растения. С духами всё сложнее: некоторые из моих собеседников относили их к ipúla, добавляя при этом, что они невидимы, а другие относили их к иной категории. Примечательно, что определенные неодушевленные сущности также могут иметь духовный или сверхъестественный характер (если их маркирует – kumã).
Но ipúla также используется для называния, например, «рыбы, которую еще не пожарили», или «сорванной зеленой ветки»; таким образом, это те предметы, которые еще не были преобразованы человеком или которые в некотором смысле еще «живы», то есть пребывают в сыром состоянии. Ipúla можно назвать также еду в потенциальном состоянии. Таким образом, всё свидетельствует о том, что нет понятия, равновеликого нашим «живым существам» [24].
В таксономии того, что можно назвать живыми существами, у явалапити сильнее всего бросается в глаза отсутствие разделения между людьми и прочими животными. Нет какого-то отдельного понятия, соответствующего нашему «животное (то есть не-человек)»; поэтому невозможно свести природу к одной общей идее «животности», как это наблюдается, например, у суйя, которые противопоставляют mbru «животное» и me «человек» (Seeger 1974: 22). Мне указали на следующие основные разграничения в мире ipúla: ipuñöñöri («люди», то есть представители человеческого рода), apapalutа́pa-mína (земные животные; явалапити перевели этот термин как «звери»), kutipíra-mína (птицы), kupа́ti (водные животные; в эту категорию, кроме рыб, входит по крайней мере одна черепаха – тракакса) и pа́tshi, культурные растения (дикие растения мне описали как ipúka-pira «растут одни») [25]. Остальные категории в этой области: utö («звери влажной земли») – разновидность насекомых; и yúlu-yúlu («летающие зверушки»). Для «насекомых» и иже с ними отдельного таксона нет; кроме того, нужно заметить, что на этом общем уровне многим животным не нашлось места [26].
Мы видим, что, за (частичным) исключением людей, базовая классификация мира животных опирается на разделение земля – вода – небо. Например, птицы делятся на тех, кто «ходит на ногах» (курообразные), «плавает по воде», «летает по небу» и т. д. В свою очередь, важнейшими классами в мире растений мне показались ataya (эметики) и irа́na («лекарства»).
В Apapalutа́pa-mína, категорию, которую я обозначил как «земные животные», поскольку именно их, особенно млекопитающих, чаще всего называют в качестве примера представителя этого класса, входят на самом деле некоторые летающие животные, насекомые и рептилии, как то: летучие мыши, пчелы и кайманы. Примечательно, что к этому классу относятся и некоторые рыбы, а именно kupа́ti-mína «большие рыбы», то есть пимелодовые, как сом-плоскоголовик и позолоченный сом. Это приводит нас к установлению центрального для данной работы критерия упорядочения животного мира – критерию пищевого режима. Одной из главных концептуальных осей категоризации мира животных у явалапити являются отношения данного вида с человеком, и, несомненно, пищевая ценность – важная составляющая этих отношений.
Человек – макака для ягуараApapalutа́pa-mína, в том числе kupа́ti-kumã, непригодны в пищу. Из числа kutipíra-mína есть можно только некоторых представителей подкласса «ходящих на ногах». Наконец, kupа́ti-rúru — основная пища животного происхождения.
Apapalutа́pa-mína, то есть «звери», – это существа, которые, можно сказать, зависли между людьми и духами. Если переводить буквально, это «почти-духи», «напоминающие духов». Поэтому, когда говорят, что большие рыбы, kupа́ti-kumã – это apapalutа́pa-mína, может иметься в виду, что они похожи на духов, то есть что это не рыбы, а «звери», очень сильно похожие на людей. Как видим, apapalutа́pa-mína находятся в сложной мифической связи с человеком. Близнецы Солнце и Луна, родители людей и дети архетипического Ягуара, родились в деревне apapalutа́pa-mína, которой правил тот самый Ягуар. Появление человечества связано с расколом между близнецами и племенем их отца: первые индейцы, созданные Солнцем из стеблей бамбука-таква́ры, убили всех животных. Но в следующих мифах этого цикла, где Солнце и Луна устраивают первый праздник мертвых, в церемониальной схватке приглашенные рыбы дерутся с хозяевами-зверями, которые названы «народом Солнца» (Kami ipuköñöri). В других мифах apapalutа́pa-mína (они всегда подчиняются Солнцу и Луне) противостоят птицы.
Архетипом, или «начальником», apapalutа́pa-mína является, как было сказано, ягуар, yanumaka. Это единственное животное, лишенное kawíka (страха или уважения) перед людьми; данное свойство сближает его с духами, к которым люди, в свою очередь, относятся с большим kawíka. Абсолютная противоположность ягуара – макака kúji-kúji (общее название маленьких представителей капуциновых). Это единственный apapalutа́pa-mína, которого явалапити можно есть, причем объясняется это довольно курьезно: «она похожа на человека» (Бассо приводит аналогичный аргумент у калапало – Basso 1972). Ягуары едят людей, люди едят макак; кто-то сказал мне: «люди – макаки ягуара» [27]. В определенных контекстах, в частности во время охоты, макаку называют ipuñöñöri, «человеком»: эта метафора не дает дичи убежать от охотника [28]. Для этоса народов бассейна Шингу характерен пацифизм; таким образом, когда во время охоты на макак человек говорит, что охотится на человека, это следует считать иронией.
Первые макаки были младенцами мужского пола, брошенными Amurikumа́lu – женщинами-чудовищами, которые ушли из человеческого общества. Об этом напомнил мне один собеседник, когда я спросил его, почему явалапити едят макак. Иными словами, макаки – это люди, вернувшиеся в мир природы, где царит ягуар, фигура, от которой люди отделились в начале времен. Мне кажется, что выбор макаки как пищи – причем пищи наименее опасной: макаку первой едят после ритуального поста – требует считать ягуара третьим опорным пунктом системы. Макаки соответствуют людям в рамках apapalutа́pa-mína, а ягуар – не-человеческая квинтэссенция этой категории живых существ [29]. Поэтому поедание макак должно напоминать людям о том, что они отличаются от ягуаров (а следовательно, и от зверей)? Кажется, макаки и ягуары некоторым образом подчинили себе мышление явалапити, воплощая комплементарные аспекты античеловечности [30]. Мы – то, что мы едим; но также мы – противоположность того, что едим; оба этих утверждения верны для поедания людьми макак.
Если макаки – это пища, особенно пригодная для людей, то apapalutа́pa-mína, в свою очередь, причитаются в пищу ягуару [31]. Солнце и Луна пытались уговорить своего отца перестать есть людей и начать есть исключительно зверей; этот договор устанавливает разделение между людьми и ягуарами, о котором вспоминают всякий раз, когда люди едят макак (и, наоборот, когда на человека нападает ягуар).
Но рыба – существо, более всего пригодное в пищу человеку. Макаки и рыбы образуют противоположность в другой оси координат, чем макаки и ягуары: рыбы сильнее всего отличаются от человека и поэтому являются его характерной пищей; макаки, самые похожие на нас звери, употребляются в пищу в «допищевых» ситуациях: их едят, когда рыбу есть еще нельзя.
Звери – это людиМожно предположить, что особое положение «зверей» связано с тем, что люди на самом деле и сами относятся к apapalutа́pa-mína и/или наоборот. Я часто слышал, что «apapalutа́pa-mína – это ipuñöñöri», то есть «звери – это люди». Архетипы человечества, Солнце и Луна, родились от союза Ягуара с женщиной-человеком (ее создал демиург Квамути́), и при этом они ассоциируются со «зверями» в противоположность рыбам и птицам [32].
Стоит отметить, что мифические близнецы, отринув родство с Ягуаром и связавшись чувственно и «таксономически» с человеческой матерью, вступили в противоречие с индейской теорией зачатия, согласно которой детородной функцией обладает только отец. Отрицание животности через отрицание отцовства, утверждение культуры путем материнства – эту идею сложно назвать ортодоксальным фрейдизмом [33].
Родство «зверей» с духами, подчеркиваемое самим названием этой категории, на первый взгляд неочевидно, поскольку если apapalutа́pa-mína и люди живут на земле, то духи пребывают повсюду, причем самые могущественные из них живут в воде. Мне представляется, что apapalutа́pa-mína – это почти-духи именно по причине своей неясной связи с человеком. Будучи похожими на зверей ареалом обитания и способом появления на свет [34], люди становятся людьми, отрицая свою связь с apapalutа́pa-mína. Я заметил, что явалапити используют эквивалент слову «зверь» [порт. bicho. – Примеч. пер.] в таком же двойном значении, какое оно имеет в разговорном португальском: это и «животное», и «неизвестная тварь, чудовище» [35]. Характерно и то, что ягуар – начальник или прообраз apapalutа́pa-mína, поскольку свирепость и людоедство приближают это животное к классу духов. Однако нужно отметить, что «хозяин» (wököti) apapalutа́pa-mína – совсем не ягуар, а человекоподобное сверхъестественное существо Апа́ша (Apasha), своим внешним видом удивительно напоминающее макаку [36].
Как бы то ни было, apapalutа́pa-mína отличаются от прочих категорий живых существ своей непригодностью в пищу; этим они схожи с духами, этой кульминацией несъедобности. Духи вызывают болезни, они требуют от больного и его семьи различных видов пищевого воздержания, а также церемониальной раздачи еды сообществу; раздает еду тот, кто от нее воздерживается. Духи не только не дают себя есть: они сначала запрещают нам есть, а потом требуют, чтобы мы давали есть им – возможно, чтобы не быть съеденными ими [37].
Птицы и рыбыПтицы (kutipíra-mína) обитают в небесных деревнях под началом Двуглавого грифа (ulúpu iöhöwtiw). Прототип класса – хищные птицы, которые периодически сражаются с душами мертвых на небесных праздниках. Птицы научили людей многим церемониям, в частности Iralа́ka (ирала́ка, дуэль на дротиках) и Pihikа́ (пихика́, ритуал прокалывания ушей у подростков). Именно Гриф установил закон, по которому подростки должны временно становиться отшельниками. В целом крылатые создания ассоциируются с молодежью (wikinöri), что заметно по рисункам на теле, особенно во время пихика́, когда детям рисуют на лице птицеподобные узоры, а также по отношениям между детьми и шеримба́бу (домашними животными).
Действительно, kutipíra означает и «птицу», и «шеримбабу»; поэтому даже собака в этом смысле может быть kutipíra. Явалапити, подобно другим народам бассейна Шингу, любят играть с попугайчиками, попугаями, питангами и другими птицами. По центру деревни стоят большие конусообразные клетки с гарпиями, а их перья используются для украшения.
Отношения между kutipíra и их хозяевами выражаются в языке формулами усыновления: хозяин растит своего шеримбабу[38] и заботится о нем, как о ребенке. Есть мифы, в которых рассказывается о том, как умершие птицы помогают путникам на небе, благодаря их за заботу, полученную на земле. Таким образом, отношения сохраняются и после смерти, поскольку небо – это мир птиц и душ. Kutipíra хоронят рядом с гамаком хозяина, считается, что у них есть душа (ipaiöri). Примечательно и то, что членов клана amulaw называют kutipíra, а предводитель «кормит» их и «заботится» о них. А представитель деревни (putа́ka wököti) обращается к своим избирателям nuñañaw «мои дети» или yumönaw «детвора».
Рыба – основа рациона народов бассейна Шингу. Ее потребление связано с бесчисленными ограничениями, которые мы вскоре рассмотрим. Пока я лишь напомню о важности разделения рыб на покрытых чешуей (irа́ta «скорлупа») и лишенных ее (imа́ «кожа»), а также о том, что первые предпочтительнее вторых. Рыбы с острыми зубами опасны для больных, поскольку могут вызывать боли. Рыбы научили людей церемонии тапанавана́н (Tapanawanã), а животных позвали драться против народа Солнца во время первого ритуала в честь матери Близнецов.
В мире животных имеется иерархия, подобная человеческой: здесь есть предводители, воители («хозяева битвы») и шаманы. Рыба кара́ (yatakúlu, рыба из семейства цихловых) – шаман рыб; большая питанга – шаман птиц; анаконда – воитель змей; сфирена – воитель рыб; ягуар – воитель земных животных. Гремучая змея – вождь змей; пая́ра (скумбриевидный гидролик из отряда харацинообразных) – вождь рыб. У животных тоже есть деревни – по одной у каждого вида. Кроме того, группы животных (рыбы, птицы, звери) и их отдельные виды могут иметь собственного «хозяина», wököti, подобных широко распространенным среди америндейских народов Хозяевам животных (см. Reichel-Dolmatoff 1973). Такой хозяин может быть животным-kumã или духом, имеющим собственное имя. Кайман (yakа́ или yakа́-kumã) – хозяин рыб; Апаша – хозяин apapalutа́pa-mína; Двуглавый Гриф – хозяин птиц.
Как и следовало ожидать, различные виды и группы животных имеют свою символику: лисица символизирует мертвых, чьи души видели это животное (или змей) ночью; бабочки связаны с Апашей [39]; красный ара – с Солнцем; гарпия и ягуар – с вождями (украшения из шкуры и когтей ягуара носят исключительно amulaw); кайман – с кариокаром; птицы, как уже было сказано, с молодежью. Кроме того, если учесть, что рыбы были первыми противниками Солнца и Луны на празднике мертвых, можно провести аналогию между ними и участниками совместных междудеревенских церемоний. Что касается растений, маниок и кариокар связан с женщинами; эметики – с мужчинами-отшельниками; а различные коренья и другие растения, такие как перец и табак, – с шаманами.
СубстанцииПища у явалапити делится на три основные категории: otsökö — пища, жаренная на открытом огне или на углях; wakúpö – сваренная в воде и yulatа́ka – запеченная на медленном огне на мокéне (решетке из прутьев). Для приготовления маниоковой каши применяются другие критерии, здесь важнейшее значение имеет понятие «разбухание», то есть достижение однородной консистенции (utukwа́). О сыром мясе говорят а́tsa otsökö pа́ «нежареное». Это само по себе интересно, поскольку жарка оказывается самым «естественным» способом приготовления пищи. После инициатического поста отшельникам категорически запрещается есть жареное: у подростков (maritshaya) от этого может случиться паралич конечностей, поскольку жареная пища противоречит принимаемым ими рвотным травам; у шаманов при инициации она открывает тело стрелам духов (apapalutа́pa inukúla), вызывая сильные боли; а у отцов, соблюдающих постельный режим после родов жены (кува́да), она «останавливает кровь» в животе. Шкала снижения опасности пищи выглядит так: жареное, печеное и вареное, то есть чем дальше от огня, тем пища безопаснее. Вареная пища ассоциируется с женщинами, которые носят воду; женская менструация загрязняет всю вареную еду в доме, но не жареную.
Эта естественная виртуальность жареного, его минимальная способность культурно изменить пищу, связана с одним фактом, на который часто обращали мое внимание: жареная рыба сильнее всего сохраняет характерный запах ahí. Для культуры явалапити характерна классификация по запаху, что помогает нам понять принципы основы пищевого режима этого народа [40].
Жизненные запахиОбонятельный код крайне разнообразен. Прямой интерес для нас представляют два понятия, поскольку они связаны с классификацией животных и указывают на телесные состояния. Первая – это запах (isha), который называется ha. Это запах apapalutа́pa-mína и человеческого пота, а также съедобных животных, которые стали несъедобными из-за того, что съели iñöyö «отвратительные» вещи – например, рыбу, в желудке которой обнаружили экскременты капибары. Ha – запах человеческого тела, он сильнее всего у взрослых людей обоих полов; у детей и стариков «нет запаха». Второе понятие – упомянутый выше ahí, запах рыбы, крови и семени, а также в целом запах секса. После полового акта человек становится ahí-mína, и рядом с ним или с ней опасно находиться любому другому человеку в пограничном состоянии. Женщины также источают ahí во время менструации [41]. Единственная другая субстанция, источающая ahí, – это женипапу. Из этого плода делают мазь, которой разрисовывают или раскрашивают тело молодых людей, вышедших из инициатического отшельничества, а также людей, закончивших траур. Женипапу может означать обретение половой зрелости или возврат к половой активности (Agostinho 1974a: 136).
«Ahí púka hã?» («Еще есть запах?») – так интересуются, достаточно ли проварена рыба. Считается, что при подготовке в пищу рыба теряет значительную часть своего ahí. В одном мифе народа камаюра́, записанном Этьеном Саменом (Samain 1991), появляются другие связи, которые позволяют включить в систему запах – сексуальность – пища плод пеки́. Первое дерево пеки выросло из праха неугомонного любовника-каймана, который совокуплялся с двумя женщинами. (В некоторых известных мне вариантах пеки рождается из яичек каймана.) Изначально запах этого плода был «плохим», полным секса, ahí. Потом Солнце отдало плоду изначальный запах женских гениталий, а им взамен отдала резкий запах определенного вида муравья. Но при этом пеки также является – как и кайман – фаллически-семенным символом; говорят, что от него живот округляется скорее у женщин, чем у мужчин.
Ahí запретно для людей в переходном состоянии: молодых людей в период подросткового отшельничества, учеников шаманов, отцов после родов жены, а также всех людей, которые не могут есть рыбу. Мне кажется, что здесь дело не в отрицательной корреляции крови и рыбы (как считает Бассо – Basso 1972), а в опасной избыточности, поскольку люди в пограничном состоянии связаны с кровью: подросткам часто наносят ритуальные шрамы, у отца после родов жены живот наполнен кровью [42]. А для шаманов проблема в том, что вещи-ahí обладают «стрелами», и ученик должен стать неуязвимым для этих переносчиков болезней, поскольку потом он будет иметь с ними дело. Примечательно то, что духи, сами лишенные запаха, обладают сверхчувствительным обонянием, и ahí особенно им не нравится: им противен запах людей, особенно запах сексуальных отношений. С другой стороны, души мертвых (yakulа́, дословно «тень») также не любят запаха живых, но у них самих есть свой очень сильный запах, который также называется ahí (ahí-rúru). Что любопытно, поскольку кровь у душ очень слабая и нематериальная. Я не знаю, как разрешить это видимое противоречие [43].