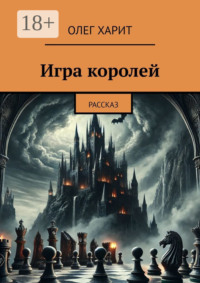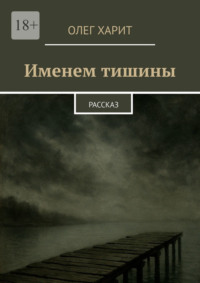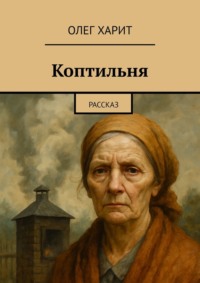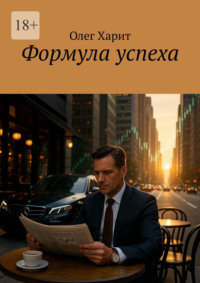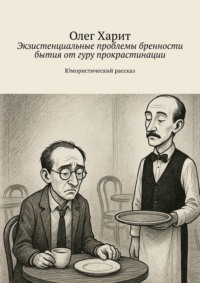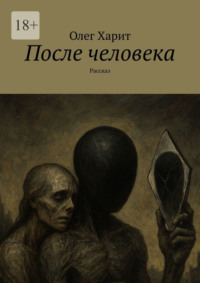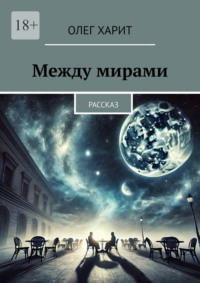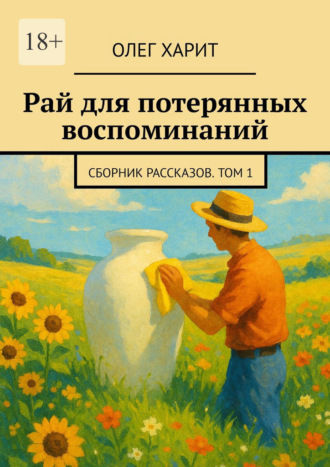
Полная версия
Рай для потерянных воспоминаний. Сборник рассказов. Том 1
– Ну вот и всё, вернулся наш мальчик… – хрипловато проговорил он. – Сколько ж лет-то прошло, а ты, гляжу, настоящий мужик стал.
Артём зажмурился, впитывая эти слова: у него не было сил сказать всё разом. Хотелось поведать родителям, как провёл это время, чему научился, как ждал встречи, а из уст вырывались лишь отрывки фраз: «Простите, что я… Я так скучал… Вы ж здоровы? Как вы тут…»
И родители только качали головами, пытаясь унять слёзы. Матери хотелось обнять его снова и снова, словно боялась его снова. А отец, примостив топор в сторону, смотрел на сына взглядом, где читался вопрос: «К чему привели тебя поиски? Какую истину ты обрёл?»
– Пойдёмте в дом, – сказала мать, внезапно спохватившись, что они все стоят прямо на дворе. – Я что-нибудь сообразить к столу да чай заварить. Ах, у меня же и припасённый пирожок в печке, думала утром отнести соседке… теперь сама тебя им угощу!
Артём улыбнулся и вслед за родителями вошёл в темноватую горницу, которая выглядела и знакомой, и необыкновенной одновременно. Здесь прошли его детские годы, а теперь ощущалось, будто он гость, вернувшийся в милое сердцу место после долгих странствий.
Пока мать торопливо подбрасывала в печку поленья, а отец таскал из холодка кувшин молока, Артём окинул взглядом всё вокруг: простые деревянные лавки, крепко сбитый стол, на стене – ветхая иконка, перед которой когда-то столько раз зажигали свечу, когда он болел. Угол, где лежали домашние инструменты для починки – цеп, коса, ухват. Казалось, здесь ни одна мелочь не изменилась, только добавилось следов времени.
– Ну, выкладывай, сынок, – произнёс отец, когда все уселись за стол. – Чего повидал, к чему пришёл? Мы-то все думали, тебя судьба могла занести куда угодно. Окончил ли ты свои… – он запнулся, подыскивая нужное слово, – поиски?
Артём сложил ладони на коленях. Он осознал, что простой рассказ обойдётся в считаные минуты, а на самом деле ему хотелось поведать родителям многое – описать долгие часы сомнений, встречи с разными людьми, радость постижения, горечь утрат, что видел у других. Но, по зрелом размышлении, понял: главное он сумеет передать не длинными подробностями, а той уверенностью, которая теперь жила у него внутри.
– Отец, мама, – начал он спокойно. – Вы помните, я уехал, потому что искал ответ на вопрос: «Что такое счастье и как мне его найти?» Мне казалось, где-то есть мудрец или книга, которая объяснит всё разом. Но оказалось, что мудрость живёт в самой жизни. Я встречал множество людей: простых, учёных, богатых, нищих, – и все они по-своему понимали счастье. Нет двух одинаковых ответов. И всё же я увидел нечто общее: когда человек живёт с добротой в сердце, с любовью к миру, когда он способен видеть красоту и в боли, и в радости, – тогда он счастлив.
Отец пристально смотрел на него, будто стараясь прочитать правду в глазах. Мать отложила половник, застыв с дрожащей улыбкой:
– Вот ведь… А мы-то всё боялись, как бы ты не пропал, не перебивался в голоде и холоде. Ты прости нас за то, что не удержали, но, может, оно к лучшему…
В тишине, наступившей после её слов, Артём потянулся к её руке, мягко сжал:
– Я благодарю вас. Вы подарили мне веру, что в простых вещах уже заложена радость. Я видел множество разных судеб, и всякий раз вспоминал, как в моём доме меня учили трудиться и любить ближнего. Это самая большая драгоценность, что у меня есть.
От этих слов мать не сдержала слёз; отец тяжко вздохнул, глядя, как она вытирает краешком фартука влажные глаза, но и сам словно просветлел лицом:
– Выходит, не зря ты ходил, Артём. Ну а теперь, что ж, останешься? Или опять уйдёшь странствовать?
Вопрос этот был задан почти шёпотом – отец боялся услышать ответ, из которого следовало бы снова отпустить сына на неведомые дороги.
Артём улыбнулся, чуть склоняя голову набок:
– Я останусь, на время точно. Надо помочь вам по хозяйству, да и отдохнуть от вечных переходов. А там посмотрим. Мне кажется, что настоящий дом – это то место, куда человек всегда может вернуться, но дорога всё равно зовёт его, когда приходит срок.
И вот начались для нашего героя совсем иные будни, исполненные крестьянского труда. Он подновил забор во дворе, помог отцу выкорчевать старый, прогнивший пень у колодца, наладил кое-где протекающую крышу. Мать радостно наблюдала, как сын уверенно орудует топором и лопатой, как сносит дрова к печи, как наведывается к соседям, кто их давно ждал помощи. В лицо Артёма вернулось детское сияние, но только уже взрослее, глубже.
Соседка, которую он встретил в первый же день, принесла ему кваса и угощение, засыпала расспросами: «Да кто ж тебя наставил в дальних краях на путь истинный? Какие ты там города повидал? Встречал ли богатых бояр?» – и он тихо отвечал, что видел многое, но главное – понял простую истину: счастлив тот, кто умеет делиться добротой, кто, не жалея, помогает другим.
– Эх, милый мой, – вздыхала она, – верно говоришь. Вся деревня радуется твоему возвращению!
Порой, поздним вечером, усталый после дневных забот, Артём выходил за калитку и подолгу любовался местным небом, полным ярких звёзд. Именно под этими звёздами он некогда зародил мечту отыскать большую истину о счастье, а теперь возвращался к ним с осознанием, что многие ответы раскрылись в его сердце. И вся эта родная тишина, пронизанная журчанием вечернего ветерка в ветвях, казалась ему мягким подтверждением, что сейчас он на своём месте.
Слух о том, что «наш Артём вернулся, такой умный стал, из городов да монастырей повидал всякого», разлетелся по округе. И вскоре к нему стали наведываться то молодые ребята, то пожилые крестьяне, которые изредка задавали вопросы: каковы, дескать, другие земли, и вправду ли люди там богаче и счастливее, или, может, каждый живёт в своих бедах?
Артём отвечал без высокомерия, стараясь изложить так, чтобы его поняли: да, есть и города побогаче, есть люди богаче, но счастье к богатству не привязано. Он видел несчастных купцов, которые боялись потерять своё золото и не спали ночами; видел весёлых нищих, готовых делиться последним куском хлеба. Иной раз, беседуя с молодыми, которые мечтали вырваться из деревни в «большой мир», он советовал не пренебрегать своей землёй, не считать деревенскую жизнь пустой.
– Если вас тянет к новым горизонтам, – говорил Артём, – это не плохо. Но помните: что бы вы ни обрели вдали, вы понесёте с собой своё сердце и свою совесть. И счастье не придёт к вам само, если в душе нет доброты.
Постепенно эти незатейливые слова становились для молодых подспорьем, обретали авторитет. Кто-то шёл от него со спокойной улыбкой, кто-то в раздумьях. А кое-кто фыркал в ответ: «Да что там он понимает, ведь все хотят стать богатыми!» Но даже такие сомневающиеся, приглядываясь к Артёму, замечали, что парень не кичится новообретённой «мудростью» и живёт просто, с уважением к соседям.
Однажды, когда он мастерил во дворе новую кормушку для скотины, по дороге к их дому показалась телега. В ней сидело двое – отец и сын, судя по отдалённому сходству. Парень лет семнадцати, худощавый, в запылённом зипуне, выглядел встревоженным. Отец, выгнув спину, подгонял лошадь, время от времени громко ругая дорогу за ухабы.
– Эй, люди добрые! – крикнул он, увидев Артёма у калитки. – Подскажите, где тут можно воды набрать да приют на час найти? У нас колесо вот-вот отвалится!
Артём отложил инструменты:
– Заходите во двор, помогу, чем смогу. Колодец наш тут рядом, и инструменты есть.
Через несколько минут выяснилось, что они из дальнего села, направлялись на базар: везли небогатый товар – ткань собственного ткачества и мешок сушёных яблок, надеялись выручить копейку. Но старое колесо дало трещину, и теперь грозило обрушить телегу.
– Я попробую наложить латку, – сказал Артём, осмотрев поломку. – А потом поможем вам надёжнее всё скрепить.
Пока мужчины орудовали топором и молотком, сын сидел в сторонке, хмуро глядя на отца и всё вокруг, будто стыдясь или досадуя на то, что их дела идут так скверно. Артём, подметив это, завёл разговор:
– Тебе, вижу, не по нраву по селам ездить. Скучаешь, что ли, по другим местам?
Подросток вздохнул:
– Да тошно мне всё, какую радость найдёшь в такой жизни? То колесо сломается, то покупатель упрётся за такой ценой, что нам и в убыток… И к чему все эти труды, если счастья не видно? Ведь есть на свете богачи, живут, не зная хлопот…
Артём улыбнулся с лёгкой грустью: его словно уколола память о себе самом, когда-то мечтавшем о далёком, неведомом чуде. Он сел рядом:
– Я тоже думал, что где-то там, далеко, люди счастливее. Но потом понял, что каждый несёт свои заботы и свои радости. А ощущение счастья складывается вовсе не из того, насколько ты богат или беден. Оно рождается от твоего внутреннего взгляда.
Тут юноша-«собеседник» скользнул по нему недоверчивым взглядом:
– Легко говорить, коли всё тебе улыбается.
– Не всё, поверь, – мягко отозвался Артём, – но я научился принимать и неудачи как часть пути. Задумайся: даже если сейчас колесо сломалось, ты, может, встретишь на дороге тех, кто поможет… И разве не будет в этом маленькая крупица чуда?
Парень усмехнулся, но в глазах его промелькнул интерес. А через час, когда дело было сделано, отец благодарно пожал им руку, оставил в качестве благодарности маленький свёрток сухофруктов:
– Хоть чем-то одарим. Добрая у вас деревня, а тебе, молодец, спасибо за помощь и совет. Может, и вправду не всё так худо в нашей жизни.
Когда телега скрылась за поворотом, Артём ощутил в душе тихое ликование. Ничем особенным он не отличился – просто помог с колесом и сказал пару слов молодому путнику, но какое странное тепло разлилось внутри: будто бы он приобщился к общей нити судьбы, помог кому-то взглянуть на мир иначе. И это снова напомнило ему все уроки, что сам прошёл, идя в неведомые края за секретом счастья.
Немного погодя, вечером, отец позвал Артёма пойти за околицу – надо было проверить, не зашли ли чужие коровы в их огород. По пути они шли бок о бок, молчаливо наблюдая, как закатные краски ложатся на рощу. Лёгкий ветерочек шевелил колосья на маленьком поле позади деревни. И вдруг отец неспешно заговорил:
– Слушай, сын, всё думаю: что ж оно за «прозрение» такое, что ты обрёл? Ты выглядишь как человек, на чьи плечи легла ответственность, но в глазах твоих нет прежней тревоги. Как будто ты обрёл покой.
Артём улыбнулся:
– Отец, во мне нет великой мудрости, просто понял: когда сердце открыто добру, а ум не боится учиться и меняться, – человек начинает замечать, что вокруг полно поводов для радости и благодарности. Даже если в жизни много трудностей, они не гасят свет внутри, а помогают ему разгореться сильнее.
– Слова твои просты, – вздохнул отец, – а ведь к этому надо дозреть. Я, помнится, в твоём возрасте тоже бегал за мечтами, но поселился тут, в деревне, и стал думать, что всё остальное так далеко, что меня не касается. Может, я ошибался.
– Не думаю, что ты ошибался, – успокоил его сын. – Каждый идёт своим путём. Главное – хранить любовь к близким и к миру. Ты ведь этим всю жизнь и занимался: создавал семью, растил меня, берёг мать. И это огромное дело.
Отец остановился, посмотрел на Артёма:
– А знаешь, кто-то сказал бы, что всё это – «пустяки», потому что нет богатства, нет почёта. Но как же приятно слышать от сына такие слова, – голос его задрожал, – я рад, что ты понял, чего стоило нам жить, по совести.
По молчаливому согласию они обнялись. И мерцание заката подсвечивало их фигуры, отбрасывая на землю удлинённые тени, словно символ соединения поколений.
Так проходили дни и недели. Артём иногда вспоминал Феликса Адриановича и мысленно рассказывал ему о том, что живёт теперь дома. Догадывался, что старый наставник, увидев его такие изменения, улыбнулся бы: «Да, вот что значит применить на практике всё, что мы обсуждали при свечах». Или, быть может, вдохновлённо процитировал бы какой-нибудь латинский афоризм, подводящий итог тем открытиям, что сделал его ученик.
Впрочем, теперь наш герой не думал, что дорога окончена. Он чувствовал, что рано или поздно судьба снова поведёт его куда-то – может, на чужие земли или в новые селения, где нужны его руки и сердце. Но в этом не было беспокойства: он воспринимал движение жизни спокойно, зная, что у него есть дом и родные, которые всегда будут ему рады.
С годами он, быть может, женится, заведёт детей, и будет передавать им этот самый огонёк, – мысль об этом вызывала в нём светлую надежду. А пока ему хватало понимания, что секрет счастья – это не некий замок на вершине горы, а тихая, чудесная способность находить красоту, радость и смысл прямо в том месте, где ты есть, и в тех людях, кто с тобой рядом.
Однажды на закате, когда Артём остался возле реки, пытаясь выловить из затона надломленную ветку, проплывавшую мимо, к нему вдруг подкралась знакомая соседская старушка. Она улыбнулась, наблюдая, как юноша старается помочь реке «не захламляться», хотя ветка никому особого вреда не причиняла.
– Ты, парень, уж совсем что ли решил весь мир очистить и спасти? – полушутя спросила она.
Артём отшутился в ответ:
– Да нет, просто, когда видишь лишнюю ветку в чистой воде, рука сама тянется убрать, чтобы всё было спокойнее.
Старушка кивнула, подумав, и произнесла:
– Верно. Когда-то твоя мать так говорила: «Малое добро, совершённое от сердца, лучше бездействия под благовидным предлогом». Сказывают, ты у нас книгу целую мог бы написать про счастье, а сам молчишь. Почему же?
Артём сложил руки, присел на корточки у кромки воды:
– Может, потому что настоящие истины живут не в писанине, а в жизни. О чём ни напиши, всё равно человеку придётся самому пройти.
Старушка хитро прищурилась:
– А твои странствия не отняли у тебя ни доброты, ни уважения к людям. Значит, всё вышло, как должно. Хорошо, что вернулся.
И эти простые слова прозвучали, как тихое подтверждение всему, что Артём открыл для себя в дорогах. Он не чувствовал гордости, не чувствовал, будто достиг небывалых высот, – лишь спокойное смирение с мыслью, что каждый день учит нас, если мы готовы открыться ему. Что в простых людях часто кроется мудрость куда сильнее громких фраз. И что дом – это не только четыре стены, а всякий уголок земли, где нас ждут с любовью, и где мы можем проявлять свою заботу о ближних.
Так и течёт жизнь нашего героя, переплетаясь со спокойным ритмом деревенских будней и озаряясь огоньками маленьких, но прекрасных мгновений – запаха свежеиспечённого хлеба по утрам, тенистых троп под лучами полуденного солнца, тихих посиделок у печи, где разгораются самые искренние разговоры. Вечерами он иногда поднимает глаза к небу и видит те же звёзды, которые когда-то толкнули его к дальней дороге. Теперь он знает: счастье не подвластно золотым чертогам, оно приходит к тому, кто отворяет своё сердце, кто не страшится делиться теплом и верой в лучшее.
Когда-нибудь его снова могут позвать заморские пути, и он отзовётся, чтобы узнать ещё больше о мире и людях. А может, наступит час, когда он решит учить своих детей тому, что познал сам, – проводить их босиком по росистой траве, как когда-то шёл сам. Главное, что завеса неведения о природе счастья спала: он понял, что оно рождается там, где искренность встречается с состраданием и любовью, а разум не боится искать и меняться.
И если бы кто-то из далёких странствий наведался в эту тихую деревню, он бы нашёл Артёма за простым трудом – например, в поле с косой или у деревенской бани, складывающим дрова. Но приглядевшись, гость заметил бы в его лице то особое сияние, которое бывает у людей, освоивших глубинный покой и радость бытия. И, задавшись вопросом, почему же от этого парня так веет теплом и уверенностью, сам бы понял: иной раз долгие странствия приводят нас туда, откуда мы начали путь, но уже с обновлённой душой.
Так завершился поиск юноши по имени Артём – и так же бесконечно он продолжается, ведь понимание жизни не кончается с одной найденной истиной. Каждый рассвет приносит новые вопросы, каждый человек дарит новые уроки, и в этом потоке меняется сердце, становясь более открытым. Но суть, которую он узнал и пронёс через все дороги, остаётся: секрет счастья – это способность видеть божественную красоту в каждом моменте, принимать мир со всеми его противоречиями и дарить своё сердце каждому, кто в нём нуждается. Ибо чем больше делишься добротой, тем ярче становится огонь счастья в собственной душе.
И если когда-нибудь в будущем кто-то спросит, нашёл ли он всё-таки заветное сокровище, Артём ответит с доброй улыбкой: «Сокровище нашлось не за высокими горами, не в подземных чертогах – а в нас самих. В простом труде, в дружеском рукопожатии, в искренней любви. А дорога на этом не заканчивается, ведь счастье – это вечный путь, освещённый нашим внутренним светом».
В один из тихих вечеров Артём сел за деревянный стол, зажёг свечу, развернул чистый лист бумаги и, задумавшись, вывел первые строки:
«В один туманный, но вместе с тем удивительно ясный для сердца рассвет, когда первые лучи бледного солнца лишь осторожно пробивались сквозь завесу ночной прохлады, в небольшой деревеньке, затерянной среди широких полей и извилистых дорог, начиналась история нашего юного героя, по имени Артём…»
Зеркальная тьма
«Зеркальная тьма» это психологический хоррор с элементами мистического триллера. Антикварное зеркало… Сначала оно кажется лишь редким антиквариатом, требующим бережной руки реставратора, но вскоре становится ясно: в гладкой поверхности прячется голодная сила, питающаяся кровью и душами. Зеркальный мир стирает границы реальности, втягивая читателя в свой лабиринт отражений, где воспоминания растворяются, а страх уступает первобытному наслаждению. Но где тот рубеж, за которым уже нет пути назад?
Глава 1. Сквозь стекло
Эйден всегда любил запах старого дерева и терпкий аромат лака – тот самый аромат, что навсегда поселился в стенах его мастерской, затаившейся в забытых богом переулках города. Это было место, куда словно стекалась вся память города: полки, забитые резными рамами, медными подсвечниками и зеркалами, застывшими в ожидании возвращения своего блеска.
Мастерская пряталась в том самом уголке города, который не показывают туристам и редко отмечают на картах. Она ютилась на узкой улочке, где даже в солнечный день свет проникал с трудом, словно боясь нарушить негласный договор с вечной полутьмой. Улица, казалось, была создана специально для того, чтобы случайные прохожие проходили мимо, даже не замечая покосившуюся вывеску с надписью «Реставрация Э. Миллера».
Внутри воздух был густой и медовый от запаха лака, старого дерева и чуть слышного аромата прогоревших свечей. Стены, обшитые почерневшими от времени панелями, казалось, поглощали каждый звук, храня его в себе, как секреты, которые лучше никому не знать. Половицы поскрипывали под ногами, будто жалуясь на то, что их тревожат после стольких лет покоя.
С потолка свисали желтоватые лампочки без абажуров, отбрасывающие тени, которые медленно ползли по стенам, как живые существа. Множество полок и ящиков занимали почти всё пространство комнаты, и на каждом из них громоздились предметы, покрытые вековой пылью: подсвечники с восковыми каплями, чёрные от времени часы, потерявшие стрелки, и зеркала, завешенные материей, словно для того, чтобы удерживать внутри что-то непрошеное.
В дальнем углу стоял старинный граммофон, почти всегда звучавший негромко – классика, блюз или джаз. Эйден замечал, что без музыки тишина становилась особенно давящей, почти угрожающей. Иногда в ней слышался шёпот, похожий на тихий разговор, который внезапно стихал, стоило ему остановиться и прислушаться.
Рабочий стол, покрытый пятнами от лака и клея, был заставлен банками с растворителями и коробками с мелкими инструментами. На полках лежали кисти всех размеров, словно хирургические инструменты для операции над прошлым. Но самым странным и завораживающим были зеркала: десятки зеркал, покрытых сеткой трещин, застывших в ожидании реставрации. Казалось, что каждое из них смотрело на него внимательнее, чем он на них.
Здесь прошлое не просто существовало – оно дышало, медленно оседая слоями пыли и тени.
Эйден не был обычным мастером, он чувствовал себя врачом, осторожно накладывающим повязки на раны, нанесённые временем. Каждая трещина, каждая царапина что-то значила, была свидетельницей чьих-то утраченных историй, и он не имел права их стирать. Когда он смотрел в старые зеркала, порой возникало чувство, будто на него смотрит кто-то из другого времени – не отражение, а тень, застывшая по другую сторону стекла.
Работа требовала терпения и осторожности. Его пальцы гладили потемневшую древесину наждачной бумагой так бережно, словно лаская живую кожу. Он растворял грязь и пыль со старой позолоты, кистью наносил лак на повреждённые узоры, словно вдыхая жизнь в мёртвые линии. В такие моменты весь мир сужался до медитативного движения руки и тихого шороха инструментов.
Тишина в мастерской была плотной, как старый бархат, пропахший пылью и временем. Её нарушали лишь три звука: шелест кисти, скользящей по шершавой поверхности; усталый скрип стула, пережившего не одну пару поколений; и приглушённые, едва живые ноты классики, скрученные в комок дрожащими руками древнего проигрывателя.
Эйден не любил тишину, но давно научился с ней ладить. Клиенты заходили редко, а потому большую часть времени он оставался наедине с тем, что когда-то было просто вещами. Зеркала, шкатулки, статуэтки – они слушали его, понимали, отвечали без слов. В их потускневших поверхностях жила память, и иногда, когда он касался их пальцами, ему казалось, что они дышат.
Он прекрасно знал свою мастерскую, как человек знает собственные руки. Поэтому, когда вещи вдруг начали перемещаться сами собой, Эйден ощутил первый укол тревоги. Он убеждал себя, что просто устал, что память иногда подводит, но внутренний голос твердил другое, и этот голос звучал всё настойчивее с каждым днём.
Ещё тревожнее было мелькание теней, живущих в зеркальных отражениях. Он замечал их лишь краем глаза – тени, скользящие по стеклу, силуэты, которые исчезали, стоило ему только повернуться. Однажды ночью он ясно услышал шорох в дальнем углу мастерской. Он замер, перестав дышать, но звук мгновенно стих – будто кто-то, заметив его внимание, отступил в глубь тьмы.
– Нервы, – шептал он самому себе, но что-то внутри знало: дело не в нервах.
Эта мастерская когда-то принадлежала мистеру Грэйвсу, старьёвщику с мутной славой. Грэйвс, угрюмый старик, словно магнитом притягивал странные вещи. В детстве Эйден любил слушать его рассказы: о зеркалах, крадущих чужие отражения, куклах, следящих глазами за гостями, и книгах, вздыхающих пылью веков.
После смерти старика помещение стояло заброшенным и мрачным, но Эйден почувствовал его зов и выкупил почти даром. Он долго очищал помещение от грязи и сырости, но следы прежнего хозяина словно въелись в стены. По ночам ему чудилось, что кто-то невидимый ходит по мастерской, повторяя шаги старого мистера Грэйвса.
Странности преследовали его с детства. Он вырос в доме, полном антиквариата, среди теней и пыльных зеркал на чердаке, которые его одновременно притягивали и пугали. Самой страшной была та ночь, когда шестилетний Эйден увидел в зеркале чужое отражение, живущее своей, отдельной жизнью. Тогда отец сделал вид, что ничего не случилось, но страх и холод, поселившиеся в сердце мальчика, не покинули его и спустя годы.
И вот однажды в дверь его мастерской постучали. Незнакомец в длинном пальто, не показывая лица, принёс ему зеркало, завёрнутое в серую материю. «Просто восстановите», – сказал он коротко и исчез, оставив лишь номер телефона, который позже оказался недействительным.
Эйден сразу понял, что зеркало необычное. Его рама была покрыта странными символами, а в самом центре стекла проходила тонкая трещина, похожая на шрам. Когда он впервые коснулся стекла, почувствовал необъяснимый холод, словно ледяное дыхание просочилось наружу. Что-то было не так. Что-то было живое внутри этого зеркала.
Эйден поднёс фонарь ближе, освещая изъеденный трещинами серебряный оклад зеркала. Поверхность дрожала, будто стекло было живым, дышащим. Он осторожно провёл пальцем по узору – старые символы, изъеденные временем, отзывались едва ощутимым покалыванием.
– Ты видел многое, – пробормотал он, даже не осознавая, что говорит вслух. – Войны, смерти, слёзы. Людей, которые глядели в тебя, а потом исчезали.
Мастерская ответила тишиной, но в отражении что-то шевельнулось – не движение, а скорее намёк на движение. Будто тень, которая не должна была быть там.
– А ты… помнишь их? – Эйден склонился ближе, вглядываясь в собственное отражение.
Зеркало молчало, но в его глубине что-то дрогнуло. Легкий звук – почти вздох. Или это только показалось?