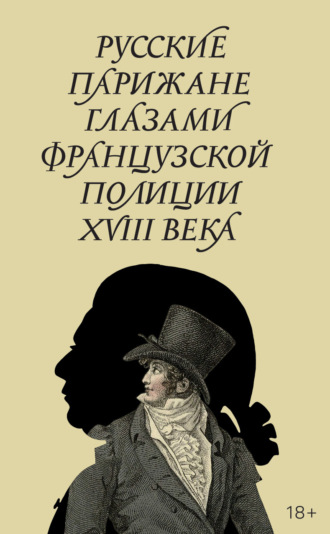
Полная версия
Русские парижане глазами французской полиции ХVIII века
Как мы видим, в конце XVIII и начале XIX в. многие русские женщины тянутся к заветным знаниям, читают книги, встречаются с философами-мистиками. Для одних посещение смешанной масонской ложи – светская забава, для других – веха на пути духовного становления. Вернувшись в Россию, Варвара Кошелева продолжила мистические поиски.
Те, кого не видит полицияВ век Просвещения торговля между Россией и Францией идет достаточно активно, хотя и уступает торговле с Англией и Голландией145. Официальный торговый договор между двумя странами подписан лишь накануне Революции, в 1787 г. Численность купцов, приезжающих в Париж из Москвы и Петербурга, растет: восемь в 1774–1786 гг. и тринадцать в 1787–1790 гг. Но из них всего двое носят русские фамилии: Малышев и Походяшин, ибо до 1787 г. торговлю вели в основном выходцы из Франции и Германии.
Полиция практически не обращает внимания на православных священников. В донесении от 1 ноября 1742 г. встречается единственное глухое упоминание о некоем священнике, прибывшем из России и остановившемся в доме посланника, князя Антиоха Кантемира146. Лишь после 1785 г. полиция время от времени упоминает о службах в часовне при русской дипломатической миссии. Однако на протяжении века в Париже служили священники Даниил Яковлев, Андрей Геневский, иеромонахи Иосаф (Осип Шестаковский), Кирилл (Флоринский), Гервасий, священники Симеон Матвеев, Павел Васильевич Криницкий.
Не замечает полиция также крепостных, слуг и ремесленников, тогда как в списке русских подданных, находящихся в Париже, составленном Иваном Симолиным 27 июля 1790 г., числятся 12 бывших крепостных, которые давно обосновались в городе и обзавелись семьями147.
Русские посольстваЕсли про жизнь русских мещан в Париже мы знаем крайне мало, то круг общения русских аристократов известен довольно хорошо благодаря их переписке, мемуарам и, разумеется, донесениям полиции. Аристократы хорошо (во всяком случае, старательно) вписываются в столичную светскую жизнь. Центр притяжения – дом посла, где справляют религиозные праздники, играют в карты, общаются, плетут интриги и передают сплетни. Первый из таких домов – Овернский особняк на улице Святого Доминика, где проживал князь Антиох Кантемир. Его секретарь, а затем поверенный в делах, потом полномочный посланник во Франции Алексей Гросс подражал ему, но без особого успеха, ибо родом был из вюртембергских мещан, особыми талантами не блистал и с высшей французской знатью не знался. После кончины князя он завел роман с его любовницей Энглебер, а затем с авантюристкой Франсуазой-Бенинь Ремон де Монмор, вдовой д’Аквиль.
Другие дипломаты, благодаря своей родовитости и любви к светской жизни, удачно встроились в парижское общество. Князь Иван Барятинский пробыл на посту посланника с 1774 по 1785 г., более всех остальных, за исключением его подчиненного, Николая Хотинского, поверенного в делах (1767–1774, 1780–1782), который многие годы жил с актрисой Деглан и в 1790 г. все еще находился в Париже. Правда, столь долгое пребывание Барятинского в Париже отчасти объясняется его долгами, ибо когда в конце 1770‑х гг. разнесся слух о его отъезде, местные лавочники обратились в полицию148.
Князь Барятинский превосходно справляется с дипломатическими и светскими обязанностями. Он общается с послами как дружественных, так и враждебных держав, посещает самые престижные светские салоны: г-жи Неккер и г-жи Жофрен, герцогини Люксембургской и маркизы де Лаферте-Эмбо. Постоянно ходит в Оперу и Итальянский театр, на концерты духовной музыки и на ярмарочные спектакли. Он играет сам и, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, открывает свой дом для игроков, как это делают также посланники Венеции и Сардинии. Видимо, это приносило ему доход149. По вечерам он отправляется на улицу Бальифа к своей любовнице девице Жертрюд, которая родила ему двоих детей150. Т. е. ведет обычную жизнь дипломата его ранга.
По свидетельству мемуаристов и полицейских, Симолина, профессионального дипломата, не особо ценили в Париже, так как он «вел жизнь весьма уединенную, даже во многих отношениях несоответственную званию российского посланника»151. Всему виной происхождение – так же, как и Фридрих Мельхиор Гримм, Иван Симолин был сыном пастора, и двери аристократических салонов были для него закрыты. Однако во время Революции, в 1789–1792 гг., он выполняет важные дипломатические задания, анализирует быстро меняющиеся события, пытается маневрировать, отправляет на родину подданных Российской империи152 и организует вместе с Гриммом неудачный побег королевской семьи в июне 1791 г., прерванный в городе Варене.
Русские салоныРусские вельможи вносят свою лепту в светскую жизнь: задают в Париже концерты, балы, званые обеды и ужины, не говоря уж о карточной игре. В 1772–1779 гг. дом графа Александра Строганова славится своим гостеприимством. Он держит открытый стол, летом устраивает концерты в загородном доме в Пасси, а зимой на улице Монмартр. У него играли по-крупному в бириби и в карты, банк держали банкометы из Пале-Рояля153. Граф собрал замечательную коллекцию картин и скульптур.
Через пять лет после отъезда графа Строганова граф Владимир Голицын и его супруга Наталья, урожденная Чернышева, задают празднества в Париже. Княгиня Голицына с осени 1785 г. устраивает званые обеды и ужины, принимает русских, французов, иностранцев. Балы у «княгини Мусташ»154 собирают весь парижский свет, юная Жермена Неккер (будущая г-жа де Сталь) также получает приглашение. Полиция пишет об успехе грандиозного бала, проводившегося в январе 1787 г. и длившегося с 5 вечера до утра155. Революция положила конец увеселениям.
О самом влиятельном салоне графа и графини Шуваловых мы расскажем позже.
Русские писатели в ПарижеРусские писатели, историки и ученые подолгу живут во Франции, некоторые в качестве дипломатов: князь Антиох Кантемир, Никита Демидов, князь Александр Белосельский, князь Дмитрий Голицын, Сергей Плещеев, Варвара Юлия фон Крюденер, Павел Потемкин, Иван Хемницер, Николай Львов, граф Андрей Шувалов, Денис Фонвизин, Андрей Нартов, граф Сергей Румянцев, Николай Карамзин. Французская полиция видит не всех, но многих. Приезжают действующие и будущие президенты и директора Академии наук и Российской академии: графы Кирилл Разумовский и Владимир Орлов, княгиня Екатерина Дашкова, президенты Академии художеств князь Иван Бецкой и граф Александр Строганов, основатель Петербургской академии художеств и Московского университета Иван Шувалов, куратор Московского университета Иван Мелиссино.
Они сводят знакомство с французскими философами, посещают их, вступают в переписку, переводят их сочинения, как, например, Александр Воронцов и Павел Потемкин. Иван Шувалов поручил Вольтеру написать «Историю Российской империи при Петре Великом». Нелюдимый Жан-Жак Руссо в конце жизни принимает графа Владимира Орлова, дружит с графом Александром Головкиным. Иван Хемницер ходит каждое утро к его дому, чтобы увидеть его издали, а Денис Фонвизин повидать философа не успевает и подробно описывает его кончину. Он же рассказывает о приезде в Париж Вольтера, тогда как остальные посещают Вольтера в Фернее и Женеве156 и/или переписываются с ним (Антиох Кантемир, Иван Шувалов, граф Андрей Шувалов, князь Александр Белосельский, княгиня Екатерина Дашкова и др.). К сожалению, когда Фридрих Мельхиор Гримм и братья Николай и Сергей Румянцевы пожелали навестить его, он заболел или сказался больным; но патриарх читал французские стихи Сергея Румянцева, присланные Гриммом, и цитировал их в своих письмах.
Именно знакомство с Вольтером и обеспечивает европейскую славу, ведь обмен письмами и стихотворными посланиями с фернейским патриархом непременно попадает во французскую прессу. Андрей Шувалов и Александр Белосельский печатаются во Франции, составляя репутацию не только себе, но и всей русской литературе. Дидро переписывается с Иваном Бецким, беседует с Екатериной Дашковой и Владимиром Орловым, а вот Фонвизина не принимает, и тот, обидевшись, в письмах называет философов шарлатанами, довольствуясь знакомством с Мармонтелем и Тома. Карамзин в 1790 г. познакомился с аббатом Жан-Жаком Бартелеми и представился ему в качестве его собственного персонажа, скифского философа Анахарсиса.
О пребывании в Париже русские путешественники – Александр Воронцов, Екатерина Дашкова, Денис Фонвизин, Сергей Румянцев, Владимир Орлов, Иван Хемницер, Алексей Бобринский, Алексей Голицын, Федор Каржавин, Василий Зиновьев, Наталья Голицына, Евграф Комаровский, Наталья Строганова, Кирилл Разумовский, Михаил Воронцов, Василий Зиновьев, Шуваловы и другие – рассказывали в мемуарах, дневниках и письмах на русском и французском языках.
Русский парижанец стал литературным персонажем. Французские и русские комедии высмеивают неотесанность россиян (Ремон Пуассон «Поддельные московитяне», 1668; Денис Фонвизин «Бригадир», 1769; Дмитрий Хвостов «Руской парижанец», 1783), и полицейские донесения им вторят. Напротив, Вольтер в поэме «Россиянин в Париже» (1760) представляет своего героя как истинного знатока французской культуры, переживающей упадок157. Поэма вызывала многочисленные подражания на литературные, политические и музыкальные темы: «Новый Россиянин в Париже» (Le Nouveau Russe à Paris, épître à Mme Reich, par M. de Tchérébatoff, 1770), Луи Леклер де Вож «Россиянин в Париже» (Louis Leclerc des Vosges, Le Russe à Paris, petit poème en vers alexandrins, imité de M. Ivan Aléthof, composé au mois de vendémiaire an 7, par M. Peters-Subwathékoff, arrivé de Rastadt, beau-frère de M. Aléthof ; mis en lumière, avec des notes critiques et politiques, pour se conformer aux temps et aux mœurs, par Guillaume Vadé, ex membre de l’ex-académie de Besançon, 1798)158, «Россиянин в Опере» (Le Russe à l’Opéra, réflexions sur les institutions musicales de la France, 1802) и другие. Они используют прием остранения, восходящий к «Персидским письмам» Монтескье.
Каждая встреча с Парижем русских писателей и вельмож заслуживает отдельного исследования. Рассмотрим более подробно, как жили в столице Франции Антиох Кантемир, Денис Фонвизин, Андрей Шувалов, как литератор и дипломат Фридрих Мельхиор Гримм улаживал проблемы Якова Ланского, приходившегося фавориту Екатерины II братом, и Алексея Бобринского, сына императрицы. Упомянем также похождения Сергея Пушкина и Дмитрия Матюшкина, лишь косвенно связанные с историей литературы.
Философское одиночество князя КантемираКажется удивительным, что человек такого знатного происхождения, блестящего образования и выдающегося литературного таланта, как Антиох Кантемир, довольствовался в Париже столь (относительно) скромным обществом159. Полиция французской столицы наблюдала прежде всего за дипломатами, и потому в 1741–1742 гг. в поле ее зрения объяснимо попадают его встречи с коллегами: саксонским посланником графом Иоганном Адольфом фон Лоссом, послами Священной Римской империи князьями Иосифом Венцелем Лихтенштейном и Луи-Жозефом д’Альбером де Люином де Гринбергеном, представителем Тосканы Франсуа-Жозефом фон Шуазелем, маркизом де Стенвилем, венецианским посланником Андреа да Лецце, чрезвычайным послом Португалии Луишем да Куньей, а также представителями Дании и Вюртемберга – Нильсом Краббе Виндом и Иоганном Рудольфом Фешем. Все они – дипломаты союзных держав России и соперниц Франции во время войн за польское и австрийское наследство.
В 1737 г. Кантемир способствует восстановлению дипломатических отношений между Россией и Францией, и его назначение в Париж становится наградой за усилия. Страны стремятся к сближению, но все заканчивается в 1744 г. провалом, за которым в 1748 г. следует разрыв официальных отношений. Шпионы, наблюдающие за князем Кантемиром и опрашивающие его слуг, замечают 3 октября 1741 г., что его отношения с кардиналом Флёри, главным государственным министром, и Жан-Жаком Амело де Шайу, министром иностранных дел, оставляют желать лучшего:
Слуги посла Московии говорят, де Его Превосходительство были чрезвычайно уязвлены приемом монсеньора кардинала Флёри, когда оне явились сообщить о разгроме шведов в последней битве. Его Превосходительство сетует также на г-на Амело, коий якобы отвернулся от него, когда оне прибыли к нему по тому же делу160.
21 января 1742 г., в момент сближения, когда ранг Кантемира официально повышен до статуса посла, Амело пишет в Санкт-Петербург маркизу де ла Шетарди:
Не должен от Вас скрывать, что из всех посланников, находящихся здесь, нет никого, кто был бы столь дружественен англичанам и австрийцам, как князь Кантемир, и я не думаю, чтобы его связи могли нам быть хоть в чем-нибудь благоприятны161.
Поведение князя Кантемира тем более подозрительно, что он не считается с полицией, уходит от слежки и не пускает в свой дом незнакомцев. Из рапорта в рапорт повторяются сетования на то, что шпионы не могут уследить за князем, чей экипаж слишком скор для пешего наблюдателя, к тому же на запятках кареты всегда стоит лакей. Инспектор Жан Пуссо подчеркивает, что Кантемир не дает никакой возможности внедрить к себе в дом соглядатая, поскольку нанимает слуг только из тех, кто имеет рекомендацию от другого дипломата, и запрещает пускать в дом людей, ушедших от него со службы. Для «просвещенной» полиции, замечает Венсан Мийо, любая попытка ускользнуть от ее надзора становится серьезной причиной для подозрений162.
Озабоченность князя Кантемира полицейской слежкой находит отклик в его «Сатире III». Это сочинение, первый вариант которого был написан в 1730 г. в России, а окончательный сложился в 1743 г. в Париже, выводит на сцену чрезмерно любопытного персонажа:
С зарею вставши, Менандр везде побывает,Развесит уши везде, везде примечает,Что в домех, что в улице, в дворе и в приказеГоворят и делают. О всяком указе,Что вновь выдет, о всякой перемене чинаОн известен прежде всех, что всему причина,<…> где кто с кем подрался,Сватается кто на ком, где кто проигрался,Кто за кем волочится, кто выехал, въехал,У кого родился сын, кто на тот свет съехал.Когда же Менандр новизн наберет нескудно <…>Встретит ли тебя – тотчас в уши вестей с двестиНасвищет, и слышал те из верных рук вести163.Кто этот Менандр, чьи прототипы отыскиваются в «Характерах Теофраста» (раздел «О хождении новостей») и «Характерах, или Нравах нынешнего века» (главы «О творениях человеческого разума» и «О достоинствах человека») Жана де Лабрюйера? Прежде всего, в нем распознается хорошо знакомая парижанам XVIII в. фигура вестовщика – профессионального сборщика и распространителя новостей, охочего до слухов и сплетен. Услугами этих людей охотно пользовалась полиция164.
В 1749 г. аббат Октавиано Гуаско публикует прозаический перевод «Сатиры III» на французский язык – перевод довольно точный, но развернутый и дополняющий подробностями некоторые места оригинала. Это в особенности коснулось тех тем, которые волнуют полицию: карточная игра («где кто проигрался»), любовные похождения знати («кто за кем волочится»), прибытие иностранцев в Париж («кто выехал, въехал»), слухи и сплетни («что в домех, что в улице […] говорят и делают»). Трудно с точностью определить, кто был инициатором развернутых дополнений в переводе. По словам Гуаско, в конце жизни Кантемир переводил с ним сатиры на итальянский язык, затем аббат переложил их на французский165. Спустя несколько недель после смерти князя в «Журналь универсель» появился некролог в сопровождении отрывка из «Сатиры I», итальянский перевод которого, как уверяет журнал, был выполнен князьями Долгорукими166.
Таким образом, видно, что князь Кантемир хорошо осведомлен о деятельности полиции. А вот полицейские информаторы плохо знают окружение русского дипломата. Генерал-полицмейстер Клод-Анри Фейдо де Марвиль помечает на полях рапорта о слежке за Кантемиром:
Продолжить наблюдения да сказать, что оные не вполне точны, ибо мне ведомо, что г-н Кантемир посещает множество мест, о коих вовсе в сем донесении не говорится, и принимает многих особ, кои никак не упоминаются (22 октября 1741 г.)167.
Попытаемся вкратце описать парижский круг общения Кантемира, опираясь, помимо сведений полиции, на работы наших предшественников168. Из донесений соглядатаев следует, что Кантемир посещает дома советника парижского парламента Пьер-Алексиса Дюбуа, виконта д’Анизи; принца Карла Лотаринского, графа д’Арманьяка; и некоего графа или виконта де Руана (Григорий Лозинский и Марсель Эрар предполагают, что речь идет о виконте де Рогане). Русский дипломат часто бывает на улице Ришелье: либо у Франсуа-Оливье де Сенозана, главного интенданта по временным делам духовенства, либо у его брата, Жана-Антуана, президента одной из палат парижского парламента. Подобно Семену Нарышкину и своему секретарю Алексею Гроссу, князь посещает банкиров Жана-Клода Туртона и Кристофа-Жана Баура. Последний из них, как было сказано выше, – видный масон, но Кантемира, в отличие от Нарышкина, соединяют с ним финансовые дела, а не масонские.
Русский дипломат был завсегдатаем салона маркизы Сесиль де Монконсей, с которой он познакомился в свой первый визит в Париж в конце лета – начала осени 1736 г. В их переписке и беседах важное место занимает политика. Отправляя 23 июня (4 июля) 1741 г. в Санкт-Петербург информацию о решениях королевского совета, Кантемир сообщает, что источником сведений является маркиза де Монконсей, дама весьма осведомленная в международных делах, и просит не компрометировать ее169.
Осведомленность маркизы объясняется ее близкой дружбой с Жерменом-Луи Шовленом, хранителем королевской печати и секретарем министерства иностранных дел (1727–1737); графом д’Аржансоном, военным министром (1743–1757); будущим маршалом Франции герцогом Ришелье и прочими сановниками. В 1736 г. маркиза знакомит князя со своим родственником кардиналом Мельхиором де Полиньяком, дипломатом и новолатинским поэтом, автором поэмы «Анти-Лукреций» (см. письмо Кантемира госпоже де Монконсей от 19 февраля 1737 г.)170. Как свидетельствуют полицейские донесения, русский дипломат в 1740‑е гг. переписывается и встречается с кардиналом.
В своем доме на улице Святого Доминика Антиох Кантемир принимает секретарей Алексея Гросса и Александра Модзалевского, а также русских, проживавших в Париже: графа Андрея Ефимовского, числившегося при посольстве, уже упомянутых Семена Нарышкина и братьев Долгоруких, князей Александра и Петра Хованских, графов Ивана и Василия Головиных, и прочих.
Французские гости приходят к русскому дипломату редко. Соглядатаи упоминают лишь имена членов одной семьи: Оливье дю Куэдика де Кердрена, главного секретаря ведомства каторжных работ и контролера казначеев ордена Людовика Святого, его супруги и их дочери, Жанны Дюбуа, виконтессы д’Анизи, жены члена парижского парламента. Инспектор Бернар Руссель пишет 3 ноября 1742 г.:
Имею честь доложить Вам, что первого числа сего месяца г-н князь Кантемир дал ужин трем дамам, из них одна г-жа д’Анизи, другая г-жа Депорт, а третьей имя узнать не удалось.
Вчера ровно в полдень он приехал в Тюильри и, явившись, прямиком отправился навстречу некоему частному лицу с двумя дамами, они прогуливались вместе до половины второго часа. <…> зовут его г-н Дегердрен [де Кердрен], он был со своей супругой. В отношении другой дамы, что была с ними, разузнать ничего не удалось, ибо проследить за ней не смогли171.
За этими встречами, очевидно, стоит не светская учтивость, а профессиональный интерес. Таково мнение инспектора Жана Пуссо, с недоверием относящегося к русскому дипломату:
Что до его поведения здесь, то оно основано на расчете, коим определяется всякий его поступок, нет ничего, что бы он делал без намерения, и даже увеселения устраиваются нарочно; он вступил в знакомство со многими дамами и дает для них трапезы, действуя не из учтивости и не от любви к застольям, на которых он скучает чрезвычайно; но поскольку все те самые дамы могут знать, что говорится и делается, а он не может вести с ними беседу о серьезных делах во время визитов вежливости, то он собирает их всех у себя и, как заметит, что языки развязались, идет на все, чтобы их еще более раззадорить. Рассказавший мне о том человек утверждает, будто названный князь узнал таким образом столько, сколько б ему и десять шпионов не выведали (8 октября 1741 г.)172.
Соглядатаи упоминают имена двух дам, которых посещает русский дипломат. Это Элен Эро, вдова интенданта полиции (1725–1739) Рене Эро, и Мари-Анна Амело, супруга министра иностранных дел – обе дамы с репутацией обаятельных ветрениц173. Рапорты полиции за ноябрь-декабрь 1741 г. сообщают также о ежедневных визитах князя к его любовнице, мадемуазель д’Энглебер. Инспекторам не удается проникнуть в дом, они знают лишь, что дама ждет от него второго ребенка174. Связь Кантемира с ней прекращается весной следующего года благодаря Монтескье175. Французского философа и русского дипломата связывало многое. Монтескье жил в Париже на той же улице, что и Кантемир; их лечил один и тот же окулист Клод-Дэе Жандрон176; издателя для переводов сатир Кантемира на французский язык нашел Монтескье; в библиотеке замка Ла-Бред хранился французский перевод сочинения Дмитрия Кантемира «История возвышения и упадка Османского двора», а у Антиоха Кантемира имелся экземпляр «Размышлений о причинах величия и падения римлян» Монтескье. Однако полиция не упоминает об их встречах, как не делает этого и русский дипломат в своих бумагах, лишь философ изредка пишет о них аббату Гуаско.
Официальная и частная переписка Кантемира проливает дополнительный свет на его парижские знакомства177. Но не со всеми корреспондентами князь одинаково откровенен или обстоятелен. В переписке с сестрой Марией за 1738–1744 гг. Кантемир вовсе не упоминает о своем обществе и лишь повторяет о настойчивом желании покинуть Париж178. В то же время его письма в Петербургскую Академию наук показывают, что дипломат общался с французскими учеными, прежде всего с иностранными членами Академии: Фонтенелем, чьи «Разговоры о множестве миров» он перевел на русский язык, а Академия издала в Санкт-Петербурге в 1740 г.; Мопертюи, для которого в 1739 г. он добился пенсии в 200 рублей; Реомюром, Жан-Жаком Дорту де Мераном и Клеро. Кантемир руководит книгообменом между Парижской и Петербургской академиями наук, получает научные публикации от книготорговцев Антуан-Клода Бриасона из Парижа и Пьера Госса из Гааги и передает их в Королевскую библиотеку.
Не забудем и о Вольтере, которому Антиох Кантемир одалживает английский перевод сочинения своего отца «История возвышения и упадка Османского двора» и предлагает внести исправления в «Историю Карла XII»179. За учтивым обменом любезностями, книгами и знаниями русский дипломат скрывает между тем насмешку и едва ли не презрение. В переписке с маркизой де Монконсей он критикует Вольтера как историка и философа, называя его «Историю Карла XII» романом и ожидая такого же «романа» от «Письма о философии Ньютона» (1738) (см. письма от 29 ноября 1736 г. и 21 января 1737 г.)180. Сам Кантемир интересуется идеями Ньютона, переводит на русский язык «Ньютонизм для дам» (1739) Франческо Альгаротти, а также слушает курс экспериментальной физики под руководством аббата Ноле, изучает алгебру и пишет о ней трактат181.
С самого начала своего пребывания в Париже князь Кантемир предпочитает общество дипломатов и ученых удовольствиям светской жизни. В этом он признается Джузеппе Осорио Аларсону, сардинскому посланнику в Лондоне в письме от 28 ноября 1738 г.:
Я веду ныне весьма скучную жизнь. Я завел очень мало знакомств и, по всей вероятности, больше не заведу, ибо для этого следует иметь два отличных качества, которых мне недостает, то есть крепкого здоровья, дабы бдеть за ужинами, и нерушимой и вечной склонности к карточной игре <…>. Обычно я откланиваюсь в десять часов, после того как исколешу улицы и погреюсь у двух-трех каминов. Тут я разумею французские дома, ибо иностранные посланники здесь как повсюду, то есть едят и пьют в уместный час, играют, а также ведут беседы, когда нужно. По всей вероятности, с ними одними я смогу проводить приятные мгновения. Отсюда Вы увидите, сударь, что мне трудно будет привыкнуть к французским модам182.
Аббат Гуаско подтверждает это признание183.
Жизнь Кантемира в Париже напоминает поведение философа («homme d’esprit»), который, говоря словами героя «Персидских писем» Монтескье, «обычно бывает разборчив в отношении общества; он избирает для себя немногих; ему скучно со всей той массой людей, которую он привык называть дурным обществом <…>. Он склонен к критике, потому что видит и чувствует многое лучше, чем кто-либо другой»184. Князь, переводивший роман на русский язык, не мог не узнать себя в этих строках.
Подобно прочим дипломатам XVIII в., как русским, так и иностранным, Кантемир содержит в Париже любовницу и, несмотря на собственные уверения, не гнушается карт (см. свидетельство Фейдо де Марвиля в письме от 12 июля 1742 г.)185. Он должен завязывать полезные знакомства, дабы получать важные сведения, блистать при дворе и в столице, демонстрируя величие своей державы. Однако душевные наклонности, денежные затруднения, долги, доходившие до 12 000 рублей (см. письмо Кантемира Михаилу Воронцову от 20 (31) января 1743 г.186), болезни, мешавшие ему часто бывать в Версале, препятствуют исполнению сего. Антиох Кантемир умирает в Париже во цвете лет.

