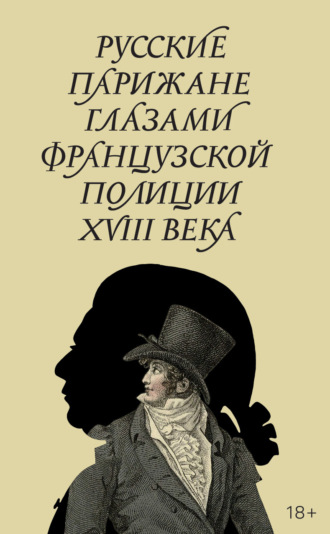
Полная версия
Русские парижане глазами французской полиции ХVIII века
Поскольку косвенным путем раздобыть полезные сведения удается редко, можно прибегнуть и к более радикальному способу: напрямую обратиться к дипломату. В течение долгого времени, пока парижской полицией руководили Клод-Анри Фейдо де Марвиль (1739–1747) и Анри-Леонар Бертен (1757–1759), это казалось невозможным. Так, 3 февраля 1746 г. среди бела дня полиция бесцеремонно арестовала на улице Шерш-Миди князя Владимира Долгорукого, задолжавшего торговцу 1100 ливров. Юноша состоял при посольской миссии и проживал под вымышленной фамилией Ришковский (обычная практика для того времени). Сумма довольно значительная, а посему Гросс обратился напрямую к д’Аржансону и Фейдо де Марвилю, дабы вызволить подчиненного из тюрьмы44. В 1759 г., когда также за долги был арестован граф Иван Салтыков, русский посланник Михаил Бестужев-Рюмин вступил в конфликт с герцогом де Шуазелем, министром иностранных дел45.
Антуан де Сартин, руководивший полицией с ноября 1759 г. по май 1774 г., стал сотрудничать с дипломатами. Перед тем как арестовать в сентябре 1761 г. Сергея Пушкина (ок. 1737 – 1795), вора и мошенника, предка поэта, инспекторы полиции заранее поставили в известность русского посла, графа Петра Чернышева, и согласовали свои действия с герцогом де Шуазелем. Мы вернемся к этому случаю позже46.
Россияне глазами парижан: городские легендыЖак Пеше (1758–1830), юрист, журналист, полицейский чиновник времен Революции, затем хранитель архивов в префектуре полиции, писал книги об истории полиции47. В 1838 г. литератор Этьен-Леон де Ламот-Лангон, автор поддельных мемуаров по истории Франции, напечатал шесть томов «Записок, извлеченных из архивов парижской полиции, служащих для истории морали и полиции, начиная с Людовика XIV и до наших дней», приписав их Жаку Пеше48. Среди прочего он рассказал о знаменитом деле о похищении детей.
Как показали Арлетт Фарж и Жак Ревель в книге «Логика толпы: дело о похищении детей. Париж, 1750» (1988), полиция в качестве профилактической меры задерживала подростков-бродяг и нищих, а также детей ремесленников; родители должны были заплатить полицейским, чтобы их чад выпустили49.
Жан-Франсуа Барбье записал в дневнике, что поползли слухи, будто детей похищают для того, чтобы исцелить прокаженного принца крови, который принимает кровавые ванны50. Об этом маркиза Помпадур сообщила своему брату, а маркиз д’Аржансон рассказал в мемуарах51. Фарж и Ревель объясняют, что легенда о прокаженном короле, которого Бог покарал за грехи, восходит к Библии, а затем возрождается в Средние века. Якобы врачи (зачастую евреи) предлагают исцелиться детской кровью императору Константину, Ричарду Львиное Сердце или Людовику ХІ52. Эта легенда соединяется с библейским рассказом об избиении младенцев и слухами о том, что евреи якобы используют в ритуальных целях кровь христианских младенцев, дошедшими до ХХ в. (дело Бейлиса; устные предания)53.
В россказнях 1750 г. сам Людовик XV предстает как монарх-кровопийца. Карамзин, посетивший Париж в 1790 г., вольно или невольно переиначил ситуацию. Фраза из «Писем русского путешественника» «народ любит еще кровь царскую!» после Террора и казней Людовика XVІ и Марии-Антуанетты приобрела иной смысл54.
В ХІХ в. эту тему подхватили легенды о бессмертных вампирах, питающихся кровью. В 1838 г. Этьен-Леон де Ламот-Лангон, уверяя, что пересказывает архивы полиции, сочинил фантастическую новеллу, героем которой стал русский князь:
Около 1749 года в Париже объявился татарский князь, российский вельможа. То был человек-чудище, гигант, похожий на отпрыска Бриарея или Энкелада. Сторуким он не был, но имел сто слуг, что не менее удивительно. Только богач может так жить на чужбине, и татарин действительно был несметно богат. Его сперва сочли за глупца, но он был всего лишь невеждой, и его татарская сметливость проявлялась во всем. Остроумие, роскошь, великолепные одеяния, суровый взгляд и высокомерные речи создали ему изрядную репутацию. Звали его князь Креспаткий. По прибытии он объявил, как именно намерен развлекаться. Он не станет посещать Версаль, ибо находится в опале у императора Ивана VI, или, вернее сказать, у регента сего несчастного юного государя, но будет веселиться на славу попеременно с хорошей и дурной компанией.
Во Франции всем правит мода. Шесть месяцев кряду блестящий татарин был у всех на устах: роскошный особняк, пышная обстановка, прекрасные лошади и кареты, изысканный стол, бриллианты, наряды, любовницы, загородный дом и прочие расточительства превосходили самые смелые фантазии. Женщины были от него без ума, мужчины злились. Все блага мира были ему доступны.
Внезапно разнесся слух, что великолепный чужеземец заразился смертельной, страшной и мерзкой хворью. Врачи, к коим он обратился, решительно объявили его бесповоротно погибшим. Их приговор потряс его друзей. А он, рассмеявшись, объявил королю об отъезде и пообещал вернуться через год свежим, сильным и здоровым.
Верилось в это с трудом – болезнь казалась неисцелимой. Ужасная проказа покрывала все тело, и недуг усиливался с каждым днем. Врачи, узнав о безумных упованиях татарина, не стали разубеждать его, посчитав, что химерические надежды помогут перенести боль. Господа Бувар, Фуркё55 и другие утверждали, что самой вероятной новостью станет кончина князя, и оною ему даже желали, столь ужасно было его состояние.
Прошло пятнадцать месяцев, о князе Треспатком [sic!] забыли совершенно, как вдруг по Парижу и Версалю разнесся слух, что князь вернулся полностью исцеленным и на нем не осталось ни малейшего следа ужасной болезни. Это было более чем удивительно, ибо почиталось невозможным.
Многие знатные особы, светские дамы и девицы легкого поведения, видели благородного чужеземца во власти ужасного недуга; все они захотели воочию узреть чудо, и все согласились, что чудо свершилось: прыщи, гнойники, струпья, нарывы – все исчезло. Татарин вновь обрел прекрасный бело-розовый оттенок кожи; вернулся румянец, исцелись веки, ресницы и брови, ранее изъеденные болезнью.
Медицинский факультет разволновался, возопил, выдвинул самые нелепые предположения, отрицал сперва существование болезни, затем исцеление, но факт был налицо: пятнадцать месяцев спустя двести человек из разных сословий подтвердили состояние князя до и после. Кончили тем, с чего должны были начать: согласились, что тайное лечение свершило чудо.
То была сущая правда: князь полностью исцелился благодаря снадобьям, победившим недуг.
Но что это были за средства? Лечение даровало больше, чем жизнь: оно вернуло былую красоту. Десять тысяч голосов вопрошали, сто близких друзей, триста женщин, придворных дам, актерок и шлюх добивались свидания. Ценой своих прелестей они желали узнать секрет, спасающий от разрушительного действия старости или болезни. Галантный татарин любезно принимал дам и удовлетворял все их желания, за исключением любопытства.
Меж тем три счастливейшие особы были посвящены в жгучую тайну. То были герцогиня О…, женщина жестокая, бесстыдная, безнравственная, бессовестная, но поистине великосветская дама; граф де…, совершеннейший вельможа, грубый, ревнивый и злобный, почитавший, что жизнь других создана для его развлечения или выгоды, ненавидимый всеми и презираемый большинством, внушавший омерзение ко всему своему сословию; и наконец маркиз де М…, граф, а позднее герцог С…
Основным лекарством и лечением, исцеляющим испорченную кровь, было переливание молодой, свежей, чистой крови56. Сперва производилось полное кровопускание, затем с помощью специально изготовленного прибора пускали в пустые вены жидкость, взятую от умерщвленных сим способом детей. Редкие растения, минералы, исторгнутые из земли в тайных местах, и сопутствующие обряды придавали операции сатанинский характер. Вот подлинная копия, сделанная г-ном Ленуаром57 с письма об этом графа…, адресованного Его Величеству Людовику XV. Оно показывает, в какие заблуждения могут впасть знатные люди, обуянные преступной манией. Можно сказать, что привычка пользоваться всем побуждает их всеми помыкать, и даже самое рабское послушание не может утолить их причудливые прихоти. Ясно, что все тогда им кажется пресным, если не приправлено каким-нибудь злодейством58.
Разумеется, сочинитель множит анахронизмы: Иван VI был провозглашен императором в возрасте двух месяцев при регенте герцоге Бироне, вскоре свергнутом Анной Леопольдовной, матерью ребенка. В 1741 г. Елизавета Петровна совершила переворот, взошла на престол и отправила младенца в заточение. Ламот-Лангон изображает татарского князя в духе романов маркиза де Сада и Шодерло де Лакло, вдохновляясь персонажами «Преуспеяний порока» и «Опасных связей»: великаном-людоедом Минским и маркизой де Мертей59.
Позднее Габриель-Анна де Систерн де Кутира, виконтесса де Пуалю де Сен-Мар, писавшая под псевдонимом графиня Даш, еще сильнее расцветила историю «вампира Креспаткого, заклятого врага Ришелье», разумеется, представив ее как подлинную60. Нам она интересна именно стереотипами восприятия русских во Франции, которые мы замечаем и у полицейских, и у писателей.
Русская колония в Париже в XVIII веке Свет с Севера?В послании к Екатерине ІІ Вольтер льстиво уверяет, что отныне свет Просвещения приходит с Севера. Однако на протяжении всего XVIII в. россияне приезжают в Париж, дабы набраться лоску. Учатся они быстро, но это не мешает парижанам посмеиваться над ними. Луи-Себастьян Мерсье в «Картинах Парижа» обращается к русскому (главы «Преподаватели приятных манер», «Драгоценные вещи») и объясняет, что «существуют особые преподаватели, обучающие манерам и всему, что необходимо знать молодым людям, желающим овладеть искусством нравиться! Это искусство имеет свои законы и развивается не ощупью, как на берегах Невы»61.
Русским, возможно, недостает изящных манер, зато денег у них хватает. Они приезжают одеться по моде и поразвлечься. И если высшая знать общается с аристократами, то остальные посещают театры, кабаки и злачные места, за коими следит полиция.
Полицейские и девкиОбычно инспектора держатся в тени и доверяют деликатные поручения частным лицам. Они, как правило, прибегают к услугам девиц легкого поведения, содержанок, танцовщиц кордебалета в Опере и актрис Итальянского театра. В своих мемуарах Ленуар утверждает, будто численность тайных осведомителей и осведомительниц была много ниже, чем те баснословные цифры, что приводила молва, а их значение в работе полиции было не слишком существенно. Однако донесения комиссаров полиции свидетельствуют об обратном. Чужестранцы весьма охочи до модных куртизанок: такой связью можно затем похваляться у себя на родине, в салонах и при дворе. Можно вступить в соперничество с французскими или другими европейскими щеголями. Что до девиц, то они облегчают кошелек северных увальней, а взамен обтесывают их.
Вот несколько примеров. В донесениях полиции князь Андрей Белосельский, посланник при саксонском дворе, предстает как персонаж комедии. В 1761 г. он тратит по меньшей мере 80 000 ливров на Лакур, танцовщицу Оперы, а она изменяет ему с Бомарше и с мушкетером де Бюси и порывает с русским, полностью общипав его. Жена про это узнала, князь испугался, что она пожалуется посланнику в Париже графу Чернышеву и герцогу де Шуазелю, и обращается к инспектору полиции, дабы замять дело.
В 1762 г. Андрей Белосельский ограничивается разовыми посещениями девиц Лафон, Радзетти, Дюарле, Россиньоль, Сиам и Дюбуа, которые за 10–50 луидоров забывают на время о своих основных любовниках. Некоторые заботятся не только о деньгах, но и об облике русского, как о том свидетельствует донесение инспектора полиции нравов Луи Маре от 19 ноября 1762 г:
На днях князь Белосельский подарил танцовщице кордебалета Оперы девице Сиам, кою содержит принц Лимбургский, несколько прекрасных штук ткани. В прошлую среду сия барышня была в Итальянском театре в самом что ни на есть изысканном облачении. Князь Белосельский сидел в ложе напротив, и не было зрелища смешнее, чем сей русский, весьма упитанный от природы, пытавшийся своими ужимками подражать нашим петиметрам. Девица Сиам, приняв подарки, в то же время изрядно позабавилась и без конца повторяла шевалье де Бюси: «Вы должны дать ему несколько уроков; коли сумеете сделать из него щеголя, то обретете бессмертную славу». «Неуклюжий вид его неисправим, – отвечал ей де Бюси, – да и ты не оставила ему ни су, чтоб заплатить учителю»62.
Другой соперник князя – Джакомо Казанова, добрый знакомый Андрея Белосельского и его младшего брата Александра. Его мать, актриса Дзанетта Казанова, играла в придворном саксонском театре. Джакомо познакомился с Андреем в Дрездене в 1766 г., возвращаясь из России, и, возможно, виделся с ним в Риме с 1770–1771 гг. Младший брат Джакомо, художник Джованни Батиста Казанова, директор Академии изящных искусств в Дрездене, в 1769 г. участвовал в продаже Екатерине ІІ коллекции картин графа фон Брюля, а затем, в 1770–1771 гг., сопровождал Андрея Белосельского в поездке по Италии63.
Россияне частенько посещают одних и тех же девиц, как, например, итальянку Гертруду Соави (Сюави), любовницу Джакомо Казановы. Венецианец встречался с ней в Италии и в Париже, где она танцевала в Опере и была на содержании у русского вельможи64. Юный граф Александр Воронцов так ей увлекся, что взял на содержание в 1759–1761 гг., и платил ей годовую ренту в 12 000 ливров до 1764 г. уже после отъезда из Парижа. Сюави принимала также разовых посетителей, в том числе графа Петра Апраксина в 1761 г. и князя Дмитрия Голицына в 1764 г. В 1766 она удалилась на заслуженный отдых в Италию.
Девица Рей, танцовщица кордебалета в Опере, в 1761 г. привлекла внимание графа Петра Апраксина и князя Дмитрия Голицына. Девицей Россиньоль заинтересовались граф Петр Репнин в 1761 г. и князь Андрей Белосельский в 1762 г. Репнин к тому же посетил девиц Летуаль в 1761 г. и Фамфаль в 1762 г. (обе состояли при заведении дамы Эке).
Дмитрий Голицын посещал заведение дамы Гурдан и содержал девицу Сир, она же Дорне, танцовщицу в Опере до 1767 г., составившую себе изрядное состояние. Дидро рассказал об их отношениях в новелле «Мистификация, или История портретов»65. В 1761 г. Дорне приняли в Общество элегантных дам (Société des Élégantes), кое объединяло самым блестящих актерок Оперы и организовывало ужины с аристократами. Этот своеобразный «профсоюз» обеспечивал богатого покровителя каждой вступившей в него даме.
Как мы видим, находящиеся под контролем полиции девицы легкого поведения придают лоску «русским парижанцам», приехавшим в столицу Европы прожигать жизнь, и обирают их до нитки. Как здесь не вспомнить Бланш де Коменж из «Игрока» Достоевского.
Источники информацииТочность и элегантность донесений не удивляет. Полицейские пишут, как профессиональные писатели, подстраиваясь под главного своего читателя – монарха. Людовик XV Возлюбленный не чурался прекрасного пола (ему регулярно поставляли красивых девушек) и по утрам читал или слушал отчеты полиции нравов. Инспекторы адресуются генерал-полицмейстеру, а через него – королю. Это ясно видно в донесении от 6 декабря 1765 г., рассказывающем об актерке Кларимонд, новой любовнице графа Кирилла Разумовского:
Как говорится, все в нашем мире прихоть, ибо по правде барышня не обладает никакими чудесными качествами, как Вы сами сможете убедиться завтра, милостивый государь, когда она явится к Вам на аудиенцию66.
Пикантные и ироничные рассказы этих лет решительно отличаются от скучных и однообразных донесений времен царствования Людовика XVІ, ибо этот король любовными похождениями не интересовался.
Отчеты о слежке за иностранцами адресованы начальнику полиции и министру иностранных дел, которые постоянно сотрудничают. Как мы уже видели, они включают донесения осведомителей, сведения, полученные от слуг, от держателей питейных заведений (супруги Прево), хозяев домов свиданий и от девиц, нередко высмеивающих своих коллег и клиентов.
Все сие может показаться баснословным, но в следующем донесении я надеюсь предоставить тому убедительное доказательство, получив в руки письмо, написанное сей дамой [графиней Салтыковой] нашему офицеру. К тому же названный г-н Демар попросил у одного из своих приятелей пустить его к себе в дом, дабы иметь больше удобства в общении с дамой, и просьба его будет удовлетворена, а сей самый приятель преданно служит мне и, видя мои сомнения на сей счет (ибо в подобного рода делах всегда требуется изображать сомнение, дабы убедиться в достоверности происходящего), предложил мне подслушать из соседней комнаты разговор любовников. Увидев, сколь уверенно и твердо он говорит, я сказал ему, что довольствуюсь письмом от дамы (6 мая 1763 г.)67.
Россияне своих соотечественников не щадят:
Граф Салтыков большой русский вельможа, обретающийся в Париже с госпожой своей супругой, заразил венерической болезнью, как все о том утвердительно говорят, актрису Комической оперы бедняжку Люси. Самому мне о том поведал князь Белосельский. «Никогда еще не видано было, как молвят, чтоб яд за столь малое время причинил столь много вреда, да с трудом верится, чтоб она смогла перенести воздействие снадобий. По правде говоря, дворянину следовало бы иметь больше человечности». И впрямь, его одноземцы редко располагают сим качеством (11 сентября 1761 г.)68.
Многие сведения о происхождении, титулах, чинах и заслугах русских настольно подробны и точны, что встает вопрос: кто их поставляет? Видимо, в первую очередь те, кто долго жил в России. Таков Николя-Габриель Клер (Леклерк), в течение многих лет личный врач графа Кирилла Разумовского, затем профессор Сухопутного кадетского корпуса. В жительство свое в Петербурге в 1769–1775 гг., во время войны между Россией и Турцией, он поставлял секретные сведения французским и шведским дипломатам69. Вернувшись на родину, он предложил свои услуги МИДу и написал «Историю России». Сотрудничал ли он полицией? Прямых доказательств этому нет, но внимание привлекает отчет от 1 ноября 1776 г., посвященный приезду в Париж старшего сына Кирилла Разумовского, Петра70. В донесении полиции так много сведений о семье, о русской истории, политике и культуре, что кажется вполне вероятным, что поставлял их Леклерк. Но он сам отчет не писал, ибо упоминается в нем. Автор или осведомитель явно жил в Москве, карьеру не сделал и затаил обиду.
Разумеется, сведения также поставляют литераторы, завсегдатаи светских салонов. Ленуар в своих воспоминаниях поминает некоего юного и бедного писателя, вхожего в особняк д’Обюссон и регулярно писавшего донесения71. Роберт Дарнтон упоминает многих писателей, сотрудничавших с полицией, в том числе будущего деятеля Революции Жан-Пьера Бриссо де Варвиля, шевалье де Муи и даже Луи-Себастьяна Мерсье.
Можно выделить четыре типа сведений о «русских парижанцах»: фактографические (в такой-то день имярек был в таком-то салоне, в театре, в гостях), биографические (обычно довольно точные, хотя полицейские зачастую путают членов больших семей), нравоописательные и политические (хотя русские не слывут заговорщиками, в отличие от ирландцев). Рассказы об их любовных похождениях частенько ироничны и забавны.
Под пером полицейских вельможи и актерки ведут себя как персонажи комедий, состязаются в остроумии и хитростях. Об этих приключениях мы подробно рассказывали в наших статьях72, а потому приведем лишь самые примечательные.
Генерал Михаил Яковлев понудил девицу Файон переселиться к себе, оплатил ее долги, выкупил заложенные ею за 60 луидоров наряды и не выпускал из дома, «уговаривая предаться неслыханным наслаждениям». Когда она отказалась, он оставил у себя всю ее одежду в возмещение расходов и выпроводил из дому в тапочках и постельном покрывале (9 марта 1764 г.)73.
Русский граф Боборыкин [Bouraquinois], коего граф Бутурлин представил актрисе Итальянского театра Бопре, отужинал с ней, но не удовлетворил, ибо после того, как воспользовался ею как хотел, счел, что щедро вознаградит ее пятнадцатью луидорами. Но девица, напротив, выказала недовольство, обрушилась на него с бранью, крича, что она-де в ладах с полицией, что она научит его удовлетворять ее иным способом и все такое прочее, из чего он вынес низкое мнение о воспитании наших актрис. Потому он объявил Брисо, что впредь будет посещать только ее заведение, дабы избежать споров об оплате (28 августа 1767 г.)74.
Граф Апраксин, который вот уже две недели как опекает девицу Шедевиль, танцовщицу кордебалета в Опере, тем не менее захотел полакомиться насчет девицы Сюави, танцовщицы того же спектакля. Я не знаю, чего это ему стоило, но есть все основания полагать, что он остался ею недоволен, ибо во всеуслышание заявляет, что она хороша лишь на театре (13 февраля 1761 г.)75.
Русский князь гетман Разумовский [prince de Razomowky], видом и статью напоминающий резвого скакуна, посетил 16 числа сего месяца девицу Грекур, коя не на шутку обрадовалась, вообразив, будто имеет дело с недюжинным силачом, но крепко обманулась в своих ожиданиях, ибо, как она уверяет, не только потребен микроскоп, дабы узреть его прелести, но вдобавок, вопреки пословице «мал золотник, да дорог», тот выдохся после первой скачки и никакими ухищрениями ни вздоха более от него нельзя было добиться. Воистину, много гонору, да мало толку. Десять луидоров послужили ей в утешение (22 ноября 1765 г.)76.
Полицейские подражают авторам комедий, мечтающим исправлять нравы смехом (Castigat ridendo mores). Однако граф Кирилл Разумовский об их писаниях не ведает и остается самим собой. Согласно донесению от 1 ноября 1776 г.,
Бывший гетман умеет здраво рассуждать, чем можно было бы воспользоваться, не будь его образование столь несовершенно. Но что говорить об образовании в стране, где не находят лучшего способа научить детей иноземным языкам, как приставив к ним людей, кои оных не знают, благопристойности не имеют и в науках не сведущи!77
Однако осведомитель сосредотачивается на событиях 1750–1760‑х гг. С той поры Кирилл Разумовский во Францию не приезжал. Возможно, выражение «чем можно было бы воспользоваться» намекает на попытки французских дипломатов сблизиться с ним и предложить создать независимое казачье государство78.
Как пишет Мерсье в утопическом романе «Год две тысячи четыреста сороковой. Сон, которого, возможно, не было» (1771),
полиция была тогда еще весьма несовершенна. Шпионаж был главным прибежищем этого слабого, мелочного, неуверенного в себе правления. Обычно шпионы более руководствовались злобным любопытством, нежели мыслью о всеобщей пользе79.
Сатира – не свидетельство, даже если Мерсье знает толк в деле. На протяжении века французская полиция изменила методы расследования и воздействия. Силы правопорядка становились все более профессиональными. Внимательная опека сменила подслушивание под дверью (или под окном), подробные отчеты вытеснили сухие донесения. Осведомители не ограничиваются слежкой и слухами. По мере возможности полиция воспитывает иностранцев. Даже если это не всегда приносит плоды, намерения благие. Россияне, приехавшие в Париж наслаждаться жизнью, узнают правила светского поведения.
Полицейские дела позволяют нам исследовать круг общения русских в Париже и понять, как создается репутация в столице Просвещения, в столице французской Европы.
Россияне в Париже: опыт социокультурного описанияПосле официального визита Петра І в 1717 г.80, Париж стал местом паломничества для россиян. Тредиаковский обожествляет город, Фонвизин высмеивает, но никто не остается равнодушным. Как магнит, он влечет аристократов и авантюристов, игроков и торговцев. Их путевые дневники, письма и мемуары подробно описывают их пребывание в городе. Полицейские донесения дополняют их, позволяют лучше представить себе их дела и досуги, круг знакомств, излюбленные места. Иными словами, становятся ли они истинным «парижанцами» или не принимают французский образ жизни.
Кто же эти шестьсот с лишним подданных Российской империи, посетивших Париж с 1729 по 1791 г., появляющиеся в полицейских донесениях? Полный список фамилий, зачастую перевранных, есть в указателе французского издания этой книги. Здесь мы дадим небольшой социокультурный очерк, не претендующий на полноту. Подобная работа была уж проделана Владимиром Береловичем, который, опираясь на дела о выдаче паспортов в АВПРИ и записки русских путешественников во Францию (а не только в Париж) в 1756–1812 гг., составил список из двухсот имен, исключительно мужчин81.
Для начала кратко представим политический и дипломатический контекст русско-французских отношений в век Просвещения. Первому официальному визиту русского государя во Францию в 1717 г. предшествовали тайные переговоры, которые вел при версальском дворе в 1705–1706 гг. Андрей Матвеев, русский посол в Гааге. Дипломат добивался французского посредничества для окончания Северной войны и предложил заключить прямое торговое соглашение между двумя странам. В своих записках Матвеев описывает церемонию представления государю, структуру королевского двора, придворные обряды и обычаи, парижские достопримечательности82, но ничего не говорит ни о своих знакомствах, ни об учении (он значительно улучшил за год знание французского языка)83. Отметим существенное несовпадение русского и французского дипломатического этикета в XVII веке: стольник Петр Потемкин полагал, что все расходы по его пребыванию во Франции в 1668 г. должен нести принимающий двор, так как это было тогда принято делать в отношении иностранных послов в России, и добился этого84. На Матвеева, приехавшего инкогнито из страны, с которой Франция находилась в состоянии войны85, это правило не распространялось. По-видимому, французские газетчики и мемуаристы не обратили внимания на его тайную миссию, чего Матвеев и желал. Разумеется, когда в Париж приехал сам Петр І, о нем без устали писали французские газеты86, рассказывали в письмах, дневниках и мемуарах, в том числе герцог де Сен-Симон87. Но полицейских донесений начала века нет в архивах.

